ведь у Бога нет других рук, кроме твоих
42.
Руки у него были, как оглобли: тонкие, длинные, жилистые. То там, то тут какие-то выступы — острые, длинные кости, плоскогорья костей и воловьи мышцы, будто трубопроводы. Нос — острая лучинка, плоские скулы, жесткий рот. Обрядная сторона — проходимец — лютый, озверевший, а на внутренней стороне — блочно-опорные конструкции фундамента, прочные бетонные балки, настаивающие хрупкие телесные почвы на своей твердости, искусственной, барсучьей глади, понтонах слуха. Он вслушивался изрытой и раздавленной платформой лица, и под плитами стонала требуха, маятник нанизанной на жилы требухи, и когда в ночи кирпичных оттенков, на квартире М., он открыл в темноте первый синий, кобальтовый изразец своего звука, пресная мучнистая влага утекла прочь, осталась только сухость — тук-тук, чуткая, неразговорчивая, услышанная.
41.
Пекло в проходе; духота была, и лопались жилки, целые скамейки боли, вареное мясо боли в голове. Нежные руки — к вискам, к взрывающимся мириадами красного глобусам. А там — он. Рукава засучены. Я научусь засучивать рукава. Я никогда не скажу ему, почему рукава у локтей. Будто укор, и на самом деле, помимо меня, в котловане зрелости пропеклась ненависть к сцене, к накуренным гримеркам, к громоздкому, звенящему, гудящему, дребезжащему на переездах инструменту.
40.
Но нам же очень важно знать политику образов, как там все было, хоть как-нибудь знать. Невероятное зазнайство при полном незнании, ничегонезнании. И они не смогут больше ничего рассказать: воспоминания.
39.
Абрикосовый запах кипел в прихожей. Как пламя, как ветер, как непроницаемая стена. Он вернулся с рынка, как всегда, с закатанными рукавами. Вытер пот со лба. Прочные его скулы, словно щиты, прятали узкие черные глаза: и вопрос о конкордате, как всегда, выслушивался в глазах и в сердце, в почках, в печени, как всегда у него рыбья неподвижность прятала изумление, умышленное, нарочное, будто преступление; требование, исключительное и обязательное, утружденное и надоевшее в молчании. У нее не было больше сил терпеть молитвенный складень лица, острый нос, пик марсианской скалы, мягкую улыбку губного разреза. Непонятливая, она расслышала в круговой поруке молчания стук молотка о корпус подводной лодки. Напрасно: пепельные среды состоялись, мраморные подлокотники подведены под руки, и на нем чистое исподнее.
Наташа…
Рукавица упала на пол с вешалки. Она прислонилась к холодильнику, прижала к нему голову. Посмотрела на него вопросительно. Веселый человек…
38.
Широкоскулый, бетонный маятник, острый нос — пик, хрупкая точка, выросшая из бетонной заливки. Арматура бурлит в грустной сини голубого неба, неужели они так серьезно больны? Да. Резвость неимоверная: вот он бежит к Байкалу сквозь кусты, а там музыканты с полотенцами. Прокуренное плечо кожаной куртки гудит от разговоров, худоба, плоскогорья костей на вылете глазниц, разъятые меркнущие, подтаявшие в седле черепа глаза. Пурга бликов в их темноте наслаивается на неуклюжее движение рукой: он постреливает взглядом в камеру, но так часто опускает голову. Невыносимое изобилие солнца, напротив — пешая скульптура его любви, программное исчезновение и запоминание: как скоро она уйдет? Девочка из хорошей семьи. Преданность и сила вышколила грусть, он исподлобья скользит к початкам губ, они смешно морщатся: девочка красуется перед камерой, ей все это внове. Как тяжело было не поддаться экрану, он пихался плечом, жирным бедром к окну каждой коммуналки, в которой складывались в космическую урну тексты. Микрофонные поролоновые, качающиеся перед ртом, обугливали горло до удушья, хотелось сипеть. Как весело бывало ночью, в рыжей свежести выбраться на паперть крыши, выйти покурить у Камчатки. Слабость в плечах, надо было привалиться к штукатурке стены. Он сам виноват: снимался в этом фильме, каком-то непонятном, не то русском, не то нерусском, чечевичная какая-то похлебка вышла из киноленты, и все сделано его именем. Просрал, называется.
Балконные двери распахиваются, из низкого второго этажа видно желто-серое, набитое пожухлой травой поле перед Удельной, маленький вокзальчик, грязный, облепленный бомжами. Рамы рассохлись за полвека, дом строили немецкие военные — хозяйка квартиры говорила; смешная старушка, быстрая, зоркая, сухонькая. Развел жилистую синь рук в стороны, потянулся, чувствуется, охрип вчера, вроде бы и не орал, да что тут сделаешь. В комнате валяется Н., вот странная, лицо в веснушках, а между ними — кожа, как ручейки белого риса. И сама — куст черной смородины, пахучей, с которого можно есть все: и веточки, и ягоды, молодые листья. Кажется, он — тертый калач, моросило по коммуналкам, и чемоданы портвейна были, и нужники, никогда не закрывавшиеся, но облака мышц на руках надуваются, ревут, как репродукторы, силой, в момент, когда с ее плеча — старо, как мир, и все же ново! ново, потчуешь не перепотчуешь! — когда падает простыня, и ключица, и натянутый стебель яремной вены на шее, и молочный вынос груди. Он отвернулся снова к прогорклому полю, синевато-свинцовому, и даже сиреневому небу. Узколейка, шпалы, как знаки переноса, ребра русскоязычные, и откос, с которого бы покатился, ох, только в мыле и губке из матраса, в грустной Каме, Оке можно натачать довольно сапогов, чтобы линялая теснина кухонного полотенца все-таки обрела очертания купола.
Турецкие сигареты, кажется, плохие, анафема. Руки в ее креме, что-то такое, видимо, трогал из ее вещей. Пахнет чем? Немного солью почему-то. Вроде же благовониями должно пахнуть.
Марионетка, он знал, что в низине, в курилках, в пивных, студиях готовится заговор. Подошла уж такая пора: он долго торчал на высоковольтных столбах по цепи передач, в серебристой копоти, размеренной, невесомой и удалился, наконец, к поручням, выбравшись из трюма белого парохода, и очевидно было, что для него металлические прутья, вваренные в палубу, означают одно — передышка, немного постоять, потом перевалиться на ту сторону; хорошо бы темной ночью, чтобы соседи не галдели и не бросали спасательные круги, не тянули острые багры, стараясь угодить в глаз.
За спиной неспокойно, перехвачивают записи, маскируют жажду палаческими улыбочками. Противно, но придется потерпеть. Невозможно сегодня лезть в склоку, в драку, наглядное пособие — ночь. В рубке своей атомной подводной лодки, в кругах безъядерной зоны — он один. И немыслимо потратить последние годы на тяжбу: целая баржа, колонна всевозможных надобностей провалится под лед, хлынет ко дну серебристая нить текста, пусть воруют — пока возможно, он будет не замечать. А потом все окажется неважно.
Неясно, конечно, как поступить с девушкой, нагрянувшей так неожиданно, вопреки смыслу, разуму — он равнодушен, насколько это возможно. Уголь вселяет надежду, радость и усыпляет бдительность, она перепевает его душу только по вечерам, но какая же это боль. Берестяной отвар, раскаленный, тонкими пучками, острыми иглами копошится в джемпере; отопление прорвало? Каждый вечер он входит на порог, а она только приехала от родителей. Она еще в туфлях, и каблуки выразительно трутся друг о друга, руки скрещены, вытянута в талии. Из какой марсианской области возможно, наконец, пришествие твое, солнце? Он не любит таких вопросов, оборачивается, закрывает дверь. Она успокаивается. Прекраснодушию на балконе отведена пара вечерних часов этим мглистым, напуганным летом. И неустроенность почему-то выросла в разы, хотя, кажется, с деньгами благополучно. Послезавтра надо ехать в Иркутск, там можно спеть. А писать, в общем-то, некогда. Нет никакой возможности. И в стеснительной комнате лежат трупы этих глупых парней, ее женихов. Как такое могло прийти в голову? Симпозиум в голове перемежается с индивидуальной консультацией. Кажется, опять вспотел, горячо спине, хотя дует прохладный ветер, парит лоб, узкая капля, он чувствует, побежала по носу до самого кончика, и пора посмотреть вниз, как она, покачавшись, клюкнется на пол. Бетонная кромка балкона — такая же марсианская поверхность, как и его лицо. И все ему ставят в вину эту волчью шубу; мерзко. Просто красивая вещь, совершенно безобидная и бесшабашная. И грезится красная степь, случайная лодка на пруду, темно-зеленая; светло-голубая, неверно освещенная солнцем в тучах вода вытолкнула лодку почти в воздух. Степь беспокойно гудит своим главным проводником — ковылем. Он соскучился по квартире на Охте, на углу шоссе Революции и Большеохтинского, там динозавры бывали каждый день, броневитые, угрюмые, веселые, глумливые, как раньше, на Блюхера. Но все изменилось. Н. недолюбливает немножко группу. Все-таки она — девочка из хорошей семьи. Ей не по нраву темная сторона тусовки: алчность, глупость, грубая хитрость, то, чем изобилует сегодняшний Олимп. Они, правда, тоже хороши; все стараются показать Н., что нечего ей тут делать, из-за нее проблемы в группе и вообще дым коромыслом, промозглое утро наступило после цветшей бурнопьяном ночи, и надо выбираться с матрасов, прочищенных утренней изморозью, ледковым ветерком, ухватывающим за поясницу, за седые волоски, первые в густой шевелюре его поколения. Н. принесла на своих тонких белых носках волнообразную, обедненную печаль, промысел печали, тревогу, поселившуюся в ногах кровати; полосы рассвета в этой квартире, приходя с балкона, уверенно устраиваются поперек дивана, и он может, проснувшись, часами глядеть, сидя, голый, в постели, на редеющие узкие ленты на глотке любовного прямоугольника. Паралич, ежеутренний стук секунд, стоит недешево: она просыпается и пугается, и один раз у нее даже дрожали руки, видимо, его узкие бликующие глаза невовремя проскочили в пролет сна.
В кармане какая-то картонная коробка, суточной нормы там, конечно, нет. Ненавистная оплеуха: вырез, грудной его, тяжелую грудину не дают погубить. Пепел стряхивает в легкие. Успокоиться надо.
Бетонный блок, еще один, потом налево, потом направо. Они договорились встретиться здесь, чтобы не было ничего нового. Роняет камень, оспа солнца на лице; пучок вен под левым глазом. Как некрасиво. Столбики бетона теперь и слева. Они низенькие, узкие, пожалуй, колкие. Это лучше, чем колоннада справа. Он как будто вышел на огромный рейд, вокруг океанские корабли — и вдруг зовут на берег, к дымищу таверн. Нет, больше там делать нечего. Пора было остановиться. Летчик-истребитель, вылетающий в стратосферу раз в месяц, — тупой дрозд. Он хочет по-другому: чаще бомбить острием, узкой сосулькой носа свистящий воздух, надо бы к звездам, а не к застолью.
37.
Перемена, школьная перестройка, если бы сыну было лет семь, он бы сейчас носился по темной мозаике кафельного пола. Коридор визжит и стонет; в топоте ног высверкивают ошалелые детские глаза. Симфония кулачков по лестничным перилам. Они свешиваются бесстрашно в пролет, подталкивают друг друга, садятся на перила верхом, они на корме своего корабля — на первый этаж выходить нельзя, у гардероба начинается море житейских страстей, и все же кулачки нетерпеливо барабанят. Учителя ходят по школе с таким видом, как будто у них под мышкой не школьный журнал, а лоция, открывающая тайны подводных камней и течений; вот-вот, завтра, они откроют тетрадь в картонной обложке и пропоют куплеты мудрости, передающиеся от одного педагогического поколения другому.
36.
Конечно, она была девочка-несмышленыш. Он так давно хотел, чтобы рядом оказалась именно такая, непредсказуемая чудачка, смелая, сумасшедшая, безответственная. Чтобы она не знала забот, богемная, упертая в одно. Кисточкой подрисовал одну бровь; бровь скакнула наверх, кисточка сбилась. Трюмо отступило в себя, пожелтело, он понял, что гримерку освещает только одна лампочка. Перегруженный, вымытый напряжением, прошедший огонь, воду и терку, он сейчас пытался вылепить себе лицо, а оно не получалось. Не было ни одной плавной линии на лице: только угловатые выемки и острые выступы, плоские просторные плашки, голубая сетка морщин под глазами. Страх выходил к нему из вентиляционного отверстия, осторожно спускался по трубе парового отопления, усаживался на батарею греть зад: чем же хороши твои песни? Простые, угрюмые слова, разочарованный рельеф, фигурки, каждую косточку которых пробирает подмерзшая водичка. А там какой-то Гойевский призрак прямо, ну, не то чтобы родственник, нет, а тот, для которого глухому придворному живописцу не хватило целой стены в столовой деревенского дома.
Дышать. Корки на ребрах не дают подняться диафрагме, перед глазами лазурь и радужные пятна. Дышать. Мороз в мягком кожаном промежутке под горлом. Потом проваливается внутрь тела солнечное сплетение. Дышать.
35.
Ничего не случилось. Я здоров, я жив.
Он опирается обеими руками на заваленный реквизитом, баночками, флакончиками и кисточками стол. Я — пальма. Острые упругие листья начиняют мое лицо, их края торчат, все склеено дурно. Из низкого рта над мощной трапецией подбородка звуки выходят с легким креном, с наклоном, стремительно вылетают. Концерт продолжится через несколько минут, рукава испачканы в краске, видимо, головокружение, потерял сознание. Нужно немного посидеть в кресле. Вот так. А теперь идти.
34.
В узком глазке, где-то в затылке, память, что ли, всплыл шарообразный гул квартирника: лунатическая походка А., сигаретный дым, все обшарпанное и замызганное, битое, колотое. Противно сидеть на свалке битого фарфора, на вытершейся обивке — решето, будто марля, душно. Но ведь нужно работать: в комнату набились оторопевшие люди, они пришли — каждый — тихими шагами, невзрачные, злые, спокойные, больные, уставшие, уставшие до смерти от тяжелого хода жизни, волочащегося по земле, пробивающего глубокие борозды, от гигантского динозавра, молотящего хвостом по каждому, кто идет следом. И услышать им необходимо новое: вода, влага, ветер, воздух, мягкая, непыльная земля, доброта, сострадание, понимание надежда. Или хотя бы правду. Каждый день толчет молотилка, только перья летят: сверху и снизу — как бетонные плиты, взгляды профессоров, учителей, начальников, родителей — из-за огромных очков, толстых линз в широкой черной пластмассовой оправе. Мятые бока троллейбусов, толпа, пыльные стекла, не мытые годами. Где-то под ложечкой мрачноватый голос бубнит — не расслышать: будто надо идти и делать что-то, он настойчивый, он изматывает, в темноте ты сидишь за портьерами, пыльными мешками, в своей комнате, из-под разрыхленного молью абажура кидается горстями остроносых огненных птичек сорокаваттная лампочка, и голос не перестает, голос прорастает все глубже у таза, он цепкий, он может сжать почки или позвоночный ствол, корешки нервов — ты так боишься и сжимаешься в кресле, у раскаленной чугунной батареи, страшной, будто атомная война. Кресло отвратительное: спинка отклонена назад и соединена с сиденьем почти под прямым углом. Доски и того, и другого прямо впиваются в позвонки. Подлокотники — узкие деревяшки, края острые — они с наслаждением погружаются во впадины вокруг локтевого сустава, туда, где спрятаны нервы. Неудачно повернешься, заденешь, и рука немеет на добрых три-четыре минуты. Глаза широко открываются, боль пронизывает, она проходит насквозь. Голос под ложечкой затихает, нет, он бурчит, просто его не слышно. В тишине после боли он становится только четче: все еще сидишь в своем недоэлектрическом стуле, беседуешь с испанским сапожком батареи, чугунной костоломкой? В 81-ом милиционеры прикрепили к такой С. наручниками и били по ребрам, три треснули, остальные выдержали. Потом М. в сумасшедшем доме разбил себе голову о такую батарею, о третий выступ слева, К. рассказал, когда вышел. Упрямый голос в своей рубке под ложечкой никак не угомонится. И каждый твой вечер проходит одинаково: гусеничный гул телевизора, острые разряды боли — когда встаешь, садишься, поворачиваешься, наклоняешься, несносный жар батареи (опять топят в конце теплого, удивительно теплого апреля) нагревает внутренности с левой стороны, что-то уже болит.
Он осторожно постучал краем гитарной деки по ботинку; так лучше чувствуешь инструмент перед игрой. Он хорошо знал голос под ложечкой, разговаривал с ним с давних пор и открыл его, пустил к своим связкам, к горлу, выпилил лобзиком звуки и смыслы для голоса — и рунические знаки обернулись пудовой клепкой брони. Он провел годы, вслушиваясь в голос, отмечая на полях книг, забот, друзей заковыристую грамматику, синтаксис, склонения слов. И когда он начал петь, усталые, нищие, наглые, убогие, трусливые, жестокие, подлые вышли к кровати со сползшим покрывалом, с голубым и белым дырявым казенным бельем, к этой железной сетке на четырех колышках, спрятанной в утлой комнатушке общежития, и узнали в его голосе столько своих разноликих и в то же время одинаковых подреберных голосов, сколько их было; все оттенки, все умения, тембры, гарь, золу, гумус, цельные бревна.
33.
Позже комиссии говорили ему: зачем же ты, козел, призываешь на свою голову кару? Клеймишь партию и государство? Труд, социалистические и коммунистические ценности, и вообще наше советское общество? Он отвечал с усмешкой — посмотрите интервью — не глумливо, с издевкой или жестокой иронией — просто весело, он говорил: в моих песнях нет политики, я врачую, я — лекарь, а не генерал, я — целитель, а не вождь, я говорю с каждым человеком, а не с племенем. Когда те, кто слушал его, его поклонники, неистовствовали, громили залы, переворачивали скамейки, когда все старое барахло дребезжало, разваливалось, растрясалось и разлеталось в стороны, ему говорили комиссии: что ты делаешь, это варварство, дикость, хаос, они истребят все! Они говорили: прекрати петь, ты погубишь себя, нас, всех. Он отвечал, глядя прямо в жернова бури: я обещал им еще спеть. Я должен спеть. Комиссии, администраторы кричали: уйди со сцены, мы убьем тебя! И он говорил: убейте!
32.
Когда ему надо было собрать десять тысяч человек, и никто не верил, что люди придут, он просто попросил, и люди пришли, люди, которым он был интересен. Он был прост, поверьте, был прост — невозможно сыграть простоту и скрыть. Невозможно, играя, привлечь журналиста, самое непостоянное существо на свете, и удержать. Отказываясь отвечать на вопросы, не вызывать ненависти, и вынудить бедолаг раз за разом слетаться и задавать новые вопросы, получать на них скупые ответы, уходить ни с чем и снова приходить, чтобы услышать молчание. Он был прост, но сколько было сделано, сколько работы, методично, терпеливо, осознанно, выполнено, доведено до точки.
31.
У него тяжелый сон сегодня, после квартирника. Ему все кажется, что он идет по полу в гостиной, чужой какой-то, где-то в Москве, может, у А., и везде раскиданы осколки чашек, битые тарелки, сахарницы, фарфор, стекло, разломанные стулья, нагромождение столов, разбитых сервантов, зеркал. Страшно, голыми ногами осторожно ступает, чувствует острие, не может остановиться и медленно двигается дальше, робко, устало. Он идет к чему-то, к чему невозможно не идти. У него натянуты нервы и осколки лежат все гуще, становятся все острее, наконец, он с ужасом чувствует, как всем весом центр стопы насаживается на большой, зажатый чем-то в вертикальном положении, острием вверх, осколок белой фарфоровой тарелки, лицо каменеет маской, вот-вот придет боль, вскинет, раздавит руки в воздухе, распластает грудь, расплющит плечи, еще немного, доля секунды, и он захочет превратиться в тончайший лист бумаги, быть мгновенно, с легкостью разрезанным пополам, только бы не живая плоть взрезалась медленно, соскребаемая по нитям нервов осколком фарфора. Ужас заполонил грудь и голову, и ракета безумия щебечет в горле — от утробы к мозгу и обратно. Стопа насажена на острие, льется кровь, но боли нет. Он с удивлением смотрит вниз: осколок по основание ушел вглубь, кровь хлещет струями и стекает ручейками, края раны уже синеют, но боли нет. Он становится журавлем. Разводит руки на уровне плеч, встает на одну ногу, поднимает другую, сгибает в колене, поворачивает — он превратился в эллина — одна плоскость, тонкий узор, протягивает руку, вытаскивает осколок. Он смотрит на рану, что происходит? она стягивается, края постепенно сливаются, будто смерзаются вместе, и вскоре ничего нет на упругой узкой стопе, свод ее абсолютно чист, первозданно бел. Он любуется красотой вытянутых, закругленных, узких, широких форм. Опускает ногу, руки по швам; лицо становится строгим, деловитым. Он выглядывает место для следующего шага, и ужас обрушивается на него: везде густое поле осколков, они еще длиннее, еще острее, прочнее, страшнее, непоколебимее. Он уже чувствует, как осколок треугольной формы, прямоугольный треугольник, установленный на узком катете, — что за наваждение — вытянут далеко вверх, и стопа неутомимо погружает его в себя, ужас сковывает, страх почти парализовал тело, и острие двигается плавно мимо голеностопа, вдоль голени, осколок вновь погружается до основания, и боли нет, и снова в танце журавля он вынимает фарфоровый нож, и идет дальше.
Сон длится бесконечно. Когда он подходит наконец к выходу из комнаты, осколки становятся такими большими, что пробираются до самого бедра. Он уже не может их вынимать. Кровь льется, не переставая, в каждой ноге по несколько осколков, он идет, как ветеран Афганистана, начиненный ими, и руки беспомощно роют воздух, и грубый глубокий страх вовсе не покидает — все тело его, и сердце, горло, рот, кажется, вся плоть изорвана белыми фарфоровыми лезвиями, а они скребут и скребут по голым нервам. Боль не чувствуется, но он вспоминает ее, вытаскивает из прошлого, он видит ее, он удесятеряет несуществующую боль, когда утрамбовывает в свою плоть новый, еще больший осколок. Черный вход, заглянуть не удается, он не может больше держаться на раздутых, разорванных, начиненных ворохом острых черепков ногах и падает назад — спиной на шипы, иглы, наконечники копей.
30.
Он просыпается. Его встречают знакомые полоски — иссиня-белые, пересекающие середину постели. Он садится. Н. еще спит, беззаботно отвернувшись. Вчерашний квартирник прошел тяжело, да. У него бедная музыка: играет ритм, ритм не торопится. Гитары дергает в разные стороны, клавишные звенят где-то на припеке, ослепленные своим собственным солнцем. И чувство разлада заложено в глубине сборки: болезненная расхлябанность, гать развезло, его музыка больна чем-то неизлечимым. Между сверлом и дрелью пролегает ночь, неосвещенная пустота, и он должен все делать наощупь, и двигаться маленькими шажками. Никто в этом не виноват: космическая чернь вложена в сито утробы и просеивается день за днем, исчерпывает себя и (ныряет).
29.
Игра, с которой он связался, прекращается только в тот момент, когда наступает смерть. Поэтому исполинское значение выигрыша и проигрыша, попутанное с суетой и исполненное благим матом, не имеет существенного значения — отдельные выигрыши и проигрыши просто красивые или некрасивые шаги к смертному одру. Красоту невозможно схватить: ты в чаду и в дыму, потом просыпаешься где-нибудь на мосту, над водой, и тебе отсвечивает область целого, и становится ясно — удалось или не удалось, сревелось, отелилось или все напрасно.
28.
Тихо у металлических дверец. Изнутри их лапает пламя: испытывает на прочность. Руки, резные, деревянные, сросшиеся со стульями красного дерева из старого Пушкина. Он хорошо помнил пол, застеленный газетами, — свинцовый гул от огромных листов, шум, который никто не слышал, и все же серая пыль, нездоровое серебро парило густым облаком в дневном свете, и легкие, жаркое молоко дыхания впитывало покорно, жадно — яды с пола, перхоть деревянной стружки, свалявшиеся комочки разъеденной, выжатой природы. Он так долго вытачивал из смазливых деревянных болванок узорные ножки, ободы сидений, что руки, мышцы на предплечьях, на плече отвердели, одеревенели буквально, жилы будто вырезаны, выкроены умелым мастером из округлого ствола. Тоненькие сетки поверх крупных, длинных веревок — вен, и все так плотно прижато друг к другу, покрыто сухой, гладкой кожей, выстругано из основания — кости, что не верится будто оно живое. Смотришь на свежесрубленную маленьким топориком спинку стула, на топорище, на руку свою — кажется, одна материя: так одинаково мягко ныряет свет в сколы и складки, в ямки, на крутые бугры. Перистые золотые лучи стекают в комнату, запрудили стены, потолок, слепят, и карусель, воздушное верчение заставляет забыть о насущном: рубанках, напильниках на газетах, старшем мастере — утружденном старом пердуне, не сознающем своего дела. Стеклянная неподвижность мира в старом дворце исподволь кипит — ровными слоями пена стелется в щелях паркета, выбрасывается вверх. А он стоит — очарованный. Остановленный. Окаменевший. Как будто много-много его гуськом вытянулось — и заглядывает в каждый угол отдельно, и в анфиладу — налево и направо.
Техникум он проклял, трудовую книжку, работу. Выпиливание по образцам. Реставраторскую склянку, ядовитую, сбил каблуком сапога со своего пути, но чувство красного дерева в руке, благородного, семиязычного, как слоновая кость, как золото — осталось, и он тосковал, не зная, себя, сдавливал сам себе плечи непроизвольно — с того момента, как покинул невысокий дворец. Освободить дерево — сумасбродная, ревнивая, глупая мысль. Оплот, оскал героического. Оно впервые показало рыло из-за спины советской повседневности. Он узнал речь судьбы. Рев, оглушающий издалека.
27.
Короткие страницы, пусто. Хорошо им было умирать, сладко: голосовые связки, надорванные многократно, никогда не заживающие, куски бровей, складень бровей, удерживаемый распахнутой трамвайной рельсой, тремя милицейскими фуражками, вагоновожатой в ссохшейся (пергаментной) оранжевой жилетке (дорожных работ). Сипло рычат подъехавшие газики. Угораздило попасться на кольце электрического общественного транспорта. На пустыре. Грязнули в синей форме быстро с ними справились: уложили в шпалы — гляди, не задохнись; лбом на блестящий, зеркальный, отутюженный рельс — ледяной. И спи себе, пока приедут, заберут. Гитару отберут, навесят бирочку с штампом. Если повернуть голову налево, видно, как гибкие, гуттаперчивые фигурки бегают туда-сюда, а в отдалении, около черной волги с синим саблезубым фонарем на крыше, стоит синий в особенной, высокой фуражке и штанах с красными лампасами. Интересно, исподнее у него тоже красное или как?
Римские жесты; скалятся, вытягиваются в стаю. Какие смешные. Пыль брешет из-под подошв. Ох, приметил-таки гад, что я гляжу в сторону. Ударил каблуком по голове. Как запел мой череп сквозь тонкую кожу о зеркальную массивную сталь рельсы, гул пошел по всем нервам, чешет, чешет. Я пытаюсь оторвать голову, покрутить немножко в воздухе. Снова удар. Долго так не протянуть. Лежу, а шум в голове накапливается, густеет. Сон продлевает его, дурнота внизу, кажется, как по салазкам, качусь по рельсам вниз, в город. Я — атлант, ось и два колеса, будто качели пиликает надо мной вагон, полный людей, час пик, консервная банка, душная, прокисшая, стремительно несется. Я несу ее, а сам вглядываюсь в отражение острого бетонного обломка — моего носа — на каждом сантиметре зеркала. Кажется, будто черная рельса отполированной верхней гранью содержит металл, извлеченный из глубины костистой звезды. Далекой, ядреной, смертной.
26.
Их поднимают резко, неаккуратно. Его тоже. Мотающаяся голова бьется о рельсы дважды, трижды. Мягкую теплую тушу скидывают в газик. Солнечный день меркнет. Пыльное крошечное окошко, часто зарешеченная тряска. Руки у всех скованы за спиной. Тех, кого бросили без сознания, при каждой встряске бьет о черные железные стенки. Хрум-хрум. Кузов кушает человеческое тело. Хрямс-хрямс — разминает косточки арматура скамейки. Хлоп — мешочек колена попал под раздачу.
25.
Но на этом, конечно, ничего не закончилось. Нет, скорее все началось. Когда он вышел из больницы в своей старой кожаной куртке, сандалиях с разболтавшимися заклепками, он понял: пора косить. Матерчатый мячик, школьная площадка — пинают-пинают, наиграться не могут. И повсюду флаги со стрелочками, проложенные саперами дорожки — прямо к военкомату. И алюминиевое небо, и брезентовое, и человечьих душ поле рдеет красными маками, а может тюльпанами, и раскрываются приветливо, алчно. Носки врозь, а пятки вместе, сирень за окном цветет, и смотрят в основном на зубы — и ушной врач, и костолом, и врачиха, трогающая яички, — на оскал глядят, заставляют скалиться, задирать подбородок — пусть стучат по колену молоточком, бьешь копытом, как лошадь, а скала обнаженного рта, распяленная небесная жижа губ, открывающая клены, березы, липы зубов — с впадинками, желобками, красивыми, покатыми черепками, панцирями, — всегда должна быть на виду — короткая лента белизны. Хриплые голоса, прокуренные руки, мешковатые, пустые, мясистые, большие — щупают, надавливают, вписывают в графы цифры — и всё вранье. Вот паскуды — что ни напишут — всё вранье. Салат справок, черных каких-то листов пластмассовых с изображением белых костей, пенящиеся сливки анализов — все идет в дело, к куриной слепоте идет дело, в епархию дыбящихся стволов и лечебных фартуков, рубашек с удлиненными рукавами. По наитию, до того, как его отправят туда силой, он шагает, накинув рубаху на плечи, накинув кожанку на плечи, с обнаженными, дряблыми подмышками, пожелтевший и посиневший от утра, дня и вечера в испятнанных человечьим салом стенах, он шагает к высокому зданию, с большими окнами в четыре створки, отделанному маленькой плиткой — голубой и белой, к параллелепипеду стенаний. По знакомству его там принимают и говорят строго: ты будешь чувствовать себя по-разному — сегодня балериной, завтра — царицей ночи, потом собой — алкоголиком, наркоманом, потом почувствуешь сталеваром, взвоешь к мартеновским печам. Богатая фантазия. А тебе поколют безобидную жидкость. Мутноватую. Какую? Барбитурат. Шутка. Я этого не говорил. И заливается высохший старичок с седыми редкими прядями истошным смехом. Он не понимает. А у дедушки такой вид, испуганный, будто он только что в запале проговорился, подшутить решил над мальчонкой, да и проговорился — сам употребляет барбитурат, приготовляет раствор, чтобы не видеть по ночам вползающие со скрипом, истошным скрипом по разбитой каменной плитке полов кровати с голыми металлическими сетками, мятыми поручнями, обглоданными ножками, на которых подушки в белых наволочках с казенными штампами вьются без причины, исторгая пуховые перышки, острые, ядовитые перышки, и скрежещут всей кроватью, а он-то (в этот момент, он знает, его прошибает холодный пот, он даже во сне чувствует, помнит, что пот этот протек вдоль хребта, с груди на самом деле) чует истину: души умерших в резиновых ремнях пляшут подушкой, изгои дрыгают ножкой, преследуют — беспокойные души туберкулезников, резавших соседей в коммуналках, зэков, переборщивших с чифирем, речитативом камлают старушки, облепленные экскрементами.
Он видит, как проходят перед старичком видения, и барбитурат тут единственное избавление, так уж добавьте, молодой человек, пару рубликов. А лучше рубликов десять. А если можно, то и больше. Ведь вам две недели лежать, внимание-то сестер не помешает.
В палате больные, как гирлянды подгорелых гренок: темные, окостеневшие. Он лежит, уставившись в полоток, кося на зеленые, в паутине стены. Он пытается представить себе знакомую комнату, М., перебирающую что-то все время, беспокойную, резкую, живую, а в голове крутится время, жестяной счетчик скуки, пугливый, рогатый. И вены призывно надуваются в локтевых впадинах. Кажись, придут в рясах, прозрачных, тонких, пышные шкафы и будут долго колоть до самозабвения, а он будет извиваться в страшных ручищах, и между приступами ужаса, когда в прорези глаз ударять будут белые шапочки на гигантских лысых черепах, осьминожьих головах, заплывших жиром, он сможет колебаться в радужных звездах с острыми наконечниками, вкладывающихся друг в друга.
24.
Пластинка оборвалась. Время прошло неминуемо. Он на балконе. За спиной полоски, Н., впереди чистое поле, полное кошмаров, конечно, и радости. Все оплачено, все будет оплачено. Покуда крикливые тени не набегут на самый верх, до макушки со дна залива.
23.
Крен преследует, будто судно ослепло, будто скатерть моря отерла свои узоры, сломала строй ткани, вырвалась и извивается безо всякой мысли. Я привязан к мачте, грубые тела волн прибивают меня то справа, то слева. На палубе — знакомая линейка. Я разглядывал ее по утрам — каждый день плавания. Как омертвевшая, ороговелая кожа — она беспомощна. Охряные, блестящие сырым лаком борта вмерзают в хляби, мороси волн. Небо осыпается, скрипит, его тошнит, его рвет, его проносит. Кресла на палубе свалены в ком, плетеные спинки ощерились тонкой щепой — бесчисленными занозами. На подошвах скопилась плесень — кажется, я так и стоял среди шторма со дня рождения. Глубокое детство, беляная и черная юность — изыскиваются из жизни Другого. Сегодняшнее «я» не имеет с ними ничего общего. История ТЭЦ и банного дня прервали сизую ряску школьной линейки глубокими надрезами и мягкими лапами карандашных рисунков. Деления затушеваны или стерты, соскоблены, срезаны. Отчеркнуты — сердито, тщательно, случайно — новые, маркие бирки, широкие, узкие, длинные, с загогулинами — так, что непонятно, где начинается и где оканчивается очередная порядковая величина, какая по счету волна, похрустывая обшивкой, порхнет из-за борта в наступившей бесчисленной минуте.
22.
В комнате на полу — перекрестья проводов: колонки, проигрыватели, гитары, усилители, пульты, педали, комбики — чего только нет. Из угла в угол — растянуты, расправлены, перевиты между собой и — пересекаются в самом центре, недалеко от кровати. Целые завалы, тубы кабеля, на конце каждого — маленькая свинчатка — иногда с резьбой, с кулачком, со штырьком или начиненная целым ворохом острых точек. Провода разминаются, расходятся, захлестывают шею, бьют, примерившись, свинцовым наконечником по горлу. А он, чувствуя удары и раны на теле, пьет, ест, ходит, и даже Н., любимая, видит на полу только мех натянутых трелей, резиновые шкуры поющих змей, невдомек ей, как связки и диафрагма надрываются, истребляя сопротивление, высверливая путь сквозь бога Ом.
21.
В кухоньке новая мебель — желтая с белым. Купили в прошлом месяце. Мусорная корзина, встроенная, выпадает из буфета наискось, как бешеный ящик. И он любит сидеть, зажатый в растворе — металлической сетки, улегшейся на гладкой доске, и пустого стола. Табуретка шатается — клац-клац-клац. Халат мал, он обтягивает костлявые широкие плечи драной тряпкой. Пышная прическа на голове, хром носа и скул отсечены от тела. Горбы кистей тоже живут отдельно. Когда же Н. встанет?
Лазурное, рисовое утро стекает с неба. Оно разъедает окно. В серебристом сиянии видно, как рама рассыпается в пепел. Лапка костлявая и тоненькая пеленает растирания, подкручивает вакуум варева. Новый день, лепший день нарезает свой ствол. В каком-то избытке себя нужно выйти наружу, печатать шаг, коричневый слепок тротуара вопьется в стопу. Метро Удельная присядет, заглянет в исподнее с любопытством, к внутренним узлам колен: седючка, старая дура с трясучей головой, плетень алкоголиков, устроившихся на мраморной скамье, работяга с вырванным воротником рубахи (под корень, с бахромой ниток). Крупа проедает плешь, сваливаясь из спелых кровавых отдушин в пресном пироге неба, в буераки подземных, сальных потолков.
В окне плечистая, колючая долина расстилается, крошится, пружинит: неясно, полегли травы или только согнулись в образине ветра. Чай горяч и мрачен, пережеванные, мягкие листья редко плавают, пустуют. Срез небольшой гильотины с коричневого варева — широких ножей губ и зубов. Колебания преследуют между глотками: в горле залетают и приклеиваются к стенкам разнообразные почтовые марки: то Мао, то Сталин.
Собственно, куда идти, он вовсе не знает. Он может прийти в каждую квартиру этого города: ни одна из них не приблизит его к тонкой секундной стрелке, кукующей где-то на высоте звезд. Эрмитаж — квартира; Камчатка — квартира. Тарховка — тоже квартира.
20.
Как они выбирались, насквозь мокрые, в ливень, переходивший временами в град, с берега залива, узенькими асфальтовыми тропинками, а по воде все стучало, тикало, камни на берегу кричали не своими голосами, песок дымил. Голова была гладкая, волосы липли, склеивались в огневых рубежах воды. Н. неловко переступала впереди, Хлюпающая, насыщенная влагой кофточка плескалась на спине, мышцы длинными тонкими окурками вспухали, опадали, казалось, у самых ягодиц пепелился и гас оранжевый огонек. Позвоночник извивался ящерицей, нанося по спине удары, тонкие обороты голеней скашивались и трещали. Она не оборачивалась, но гнала, он чувствовал, сетями и нитями — к дну залива, к аквалангическому экстазу стихии. Ее спина, копошащаяся, будто развороченная снарядами траншея, теснила его к линии фронта, к остаткам снаряжения, к бою. Ни у кого не вызывало сомнения, что столкнуться с черным лебедем грозы, ударами, брусьями, котлами боли должен именно он, вытянутый, будто дельфин, в ремнях автоматов и винтовок, к кожаному, потертому небу; небу-патронташу. Корпус людского яда из-под кожи любимой выступал, приседал, раскачивался и поливальной машиной трусости гнал на север, к заливу-оборотню, к камням, к шлангам, раскопкам нагнетенного пара.
19.
Всякому разумному человеку было очевидно, что вокруг — нежить, срам, конфузия, однако мало кто решался сказать об этом так, чтобы быть услышанным беременной гражданским духом толпой. Одни не умели, другие не могли, третьи притерлись в обкомовских столовых. Однако шли поперечные 80-ые, породнившиеся с никудышностью, посредственные, полная размазня. Пухлые тома по-прежнему падали на голову, новое, будто черевички, подвернутые в чистые носовые платки, неслось на бесах, опадая градом дерьма на простых людей. Распознать в вони нечистот вразумление и откровение было немыслимо. В опрятных пятиэтажках прятались по одиночке от черепашьих, черепных теней, подкрадывавшихся на улицах. Кусты отбрасывали в ночных фонарях роковые тени. В них по утрам находили окровавленные дамские шляпки и трусики.
18.
Во всем этом он не участвовал: рябые со свинцовыми кулисами под куртками обходили его, чернокожного, медноголового, в перчатках с обрезанными пальцами, стороной, признавая своего, советское слово избегало и упорно (слепо) писало в трудовой книжке, будто в прописях.
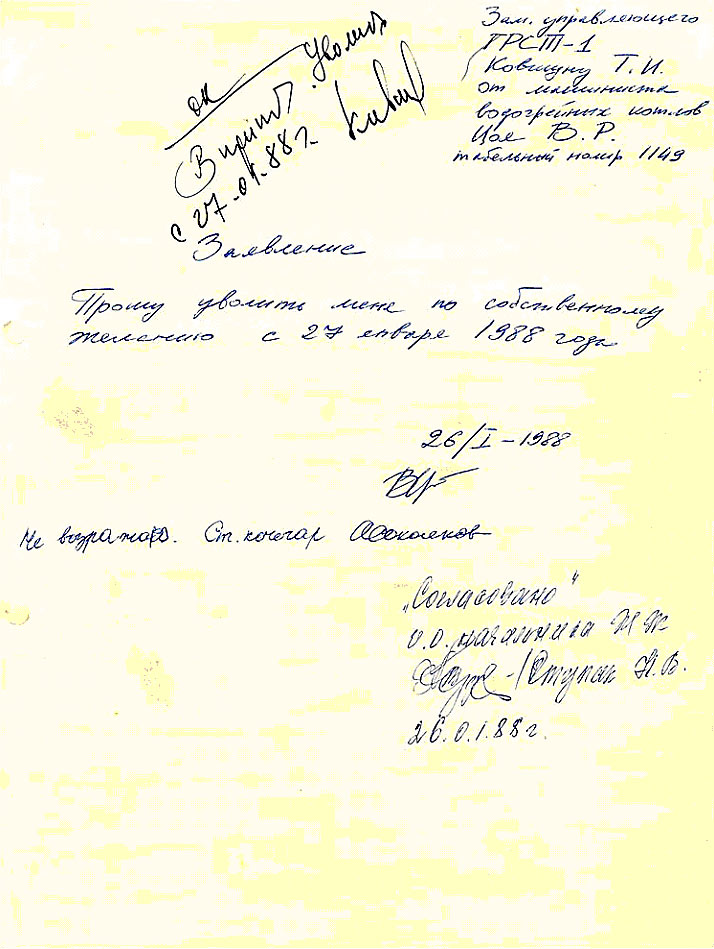
В то же время крепкая старая скамья дружеского участия шаталась и трещала по швам; громкий ключ старого мира оказался узковат и искусственен: и в нем нашлось каноническое. Требовалась свобода бытописания, в карнавальных костюмах советских кухонь, первомайских демонстраций скрывалась точка роста в вечность. Понадобилось отрешиться от старинных, проверенных связей: его понимали все меньше в пепельном подполье ленинградского клуба. Обратная передача от нового звучания оканчивалась там, где начинались границы традиции: писать можно было широко и вольно, но для немногих и обязательно сложно, с виньетками. Он воспротивился: карманной выделки смоленые кораблики (крейсеры рока) преграждали млечную дорожку блестящим усеченным, острым горошинам. /Искусственность флота, осваивающего океан, (сгусток пронизывающий) переменилась для него в органическое, наслоенное — хлопья горошин, сплав по реке, сплошную нефтяную пленку, загораживающую натуру моря, но и пропитанную ею. Из этого-то понимания следовало писать. Оно обезоруживало, угнетало, оно предрекало говорящему распластанность в разреженных слоях символической атмосферы, но оно давало возможность найти новый язык, далекий от туманных, мутных метафор, наскоро склеенных ритмом и рифмой./
17а.
Один из его величайших перформансов; он и не знал, что это было. Грудинку (его грудь) внесли ароматным блюдом в зал, оснащенный острыми стальными приборами — и ножами, и вилами, а он, как простак, поднимал руки, разводил ими, ходил по сцене.
На концерте Памяти, когда требовалось еще играть и играть, когда зал вымер, ошепотченный, а затем слил рев в пазухи авансцены, и трудно было выдержать, как всегда, давление этой размазанной, буйной оркестровки (но такой вожделенной), так вот, в самом корне концерта объявили: «баш». Конец; умащенный маслами казенный женский голос, слащавый, сильный настолько, что он перекрывал (как это было неестественно, когда спокойный, мягкий, богатый глубокими тонами, но повелевающий голос, перекрыл разъяренное трубное беснование толпы) брешущее народное стадо, попросил спокойно пройти к выходам. Не толпиться, не создавать давку. Напряжение возросло, когда люди в зале не подчинились. Шурупы шума ввинчивались в потолок и людское море, и взрывались головками крика, визга. Гам стоял страшный. А у него на сцене отключили микрофон. Вот тогда-то и началось это стояние, бдение у умершего тела. Минута молчания, сопровождавшаяся адским шумом, бренчанием голосов, бряцанием колокольчиков. Он ходил по сцене, подходил к микрофону, дергал струны гитары — бесполезно, сцену обесточили. Отчаяние толпы переросло в ярость, люди встали в ложах, вопили, потрясали кулаками, рвали на себе одежду. Поток ругательств и оскорблений плескался в куполе зала, вмерзая в небо немытым золотом: так драгоценен был это восторг перед сном, восторгом освобожденной публики. Голоса приносили к вогнутому потолку тачку с золотой рудой и кайло (плесень слюны), которой руда была вымарана из земли непроговоренного. Они еще барахтались в новом слове, еще не знали толком его корней и логики, и следствий, и чего ждать в пустынных плафонах неба, открывшихся за декорациями советов. Вот он и стоял на сцене, и вспоминал бережно сколы колокольчиков. И рев заменял песню, а голос в репродукторе сжался в комок. Паломничество по прямоугольнику сцены — от микрофона к гитаре, от края в глубину — все длилось, оно было полно искушения уйти, страха наказания, горечи — ибо за смертью приходила снова смерть (объявленная казенной мягкостью женских связок, запруженных пошлостью и безумием канцелярской похоти).
17.
Он поселился в своем доме, что было не принято. В убежище на Удельной. В щелях гнездовал ветер, скоблил края дощатых паркетов, но ведь перепончатые, стерильные, засиженные мухами лапки друзей больше не повисали на плечах. Он остался один. С Н. Квартиры-капканы, оплаченные кислым красным кубанским, молдавским за рубль с чем-то — в прошлом. И столы, прихваченные щипчиками дыма, жесткими клубами, будто кривые, разбитые кусочки коричневого сахара. Кручение-верчение, клеенки, бесстрастные недоступные (и доступные в конце концов) женщины, оказавшиеся случайно в регате болезненных, курящих яхт — грязно-белых, дымчатых, черных, женщины, история которых неизвестна до той поры, пока ты не начинаешь целовать ее зубами в простенке между ванной и туалетом, и затылком она включает свет на кухне, жует твои губы, как лошадь, щебечет и стрекочет и лезет, куда не следует, где оно взошло, вздыбилось, а ты внутри еще холоден, груб и плечист от страха — ключицы никак не поникнут, выпирая вперед и ввысь, и жаль, что комариный писк ее бесполезен (он даже мешает), но отвернуться ты не можешь, потому что чуешь (третьим дыханием), что сейчас, вслед за писком, будет жало — прямо в горле, в поющем, проткнутом уже охапкой концертов горле, раскаленном, тонкая серебряная игла, и будет казаться, что это отсроченная смерть, укомплектованная клацающими белизной псами с бархатного, ночного верха. Оно все могло закончиться только в хозяйской задней комнате, в самом раннем рассвете, в лохмотьях оборванных обоев — свежесрубленных ее ногтями, заменявших и одеяло, и простыни. Она линяла и выпадала вбок — на пол. Ты больше никогда ее не видел. Искал лицо в зале и даже на улице. Забывал, припоминал. Никогда не встречал. Она оказывалась знакомой знакомого, друг которого, уехавший в Сочи и пропавший там, привел ее на вечеринку и все равно не знал ни имени, ни пристанища ее, и ничего не смог бы сказать, даже если бы вынырнул вдруг с папертей вокзалов полустанков. Но он пропадал навеки.
16.
Все это было долго, несмотря на М., на карликовые домашние деревца, высаживаемые в съемных жилищах. Когда появился С., пресная вода, на дне которой лежал толстый слой черного перца, вытекла. Меха бурдюка оказались полустерты. Дрезина вышла на запасный путь. Затем, харкнув, встала на свое — к горам. Эпизоды не могут длиться вечно. Идиллию нарушала ее кропотливая возня и назойливый шорох вокруг. Необходимо было свалить, удрать. Он встретил Н. в кулисах и перебазировался на Удельную.
15.
Тяжелые клеммы его любви, окислившиеся, небрежно зачищенные, потемневшие, со скрипом встали в новые гнезда. Супротив крепких и корявых звеньев в волокнах будня, на нем всегда был романтический длинный плащ или зарешеченная лисья шуба. Аксессуары придавали ему дикий вид. По канальцам, образовывавшимся вокруг, водица приятных мелочей стекала в партер. Он ненавидел свою внешнюю холодность: Н. часто пугалась. Она была другого круга, в котором о чувстве говорили, слякоть, пушистость, резину холили, лелеяли, оно было выхолощено и отжато до чистейшей, нежной мякоти. С его ребер любовь стекала в урну млечного пути и только потом, предотвращая свое собственное разнообразие, намеками, из-под земной коры, из суглинистых следов, оно разевало пасть к куриной женской слепоте, в которой Н. клевала носом, почивала, брезгуя бронзовым веком его любви, неандертальским, базальтовым течением ради коротких пожатий и сплетений пальцев. Что скажешь? Честная, нежная, преданная, но такая девчонка.
Он запинался иногда от горстей слов, которые она беспечно разбрасывала, не задумываясь. Он терпеливо поворачивался вслед за ее взглядом, не ревновал, не сдувал пылинки, не дышал у шеи, поднимая бурю маленьких волосков. Он высиживал из нее красивую женщину и достал-таки до своего: гордость, гибкость, упрямство сказались в каменистом крутом ложе, которым она восстановила свой костный и мышечный каркас. Она вычертила рисунок жизни, строгий и красивый, на скалах его вечной мерзлоты, на валунах. Не пыталась, согревать, не ожидала таяния. Пустозвонные массивы промискуитетов проходили, неопасные, у его глаз. Башня выслушанного, отскрипевшего, отшелестевшего дерева утвердилась на Удельной.
14.
Но ничто из этого не означало, что очередным утром, в перепелином, промозглом ворохе туч, ему не придется уйти, забрав плащ и опознавательные знаки — таблички. Сопревшие за ночь ладони на коленях переснимают напряжение мышц, сообщают на капитанский мостик о состоянии, кликах порозовевших в рассвете строительных кранов, о скелетах, которые уже давно не поднимают на новостройки бетонные блоки, но все еще возвышаются, будто мины замедленного действия, и норовят упасть. А вокруг все стоят к ним спиной, одетые в последние парадные костюмы, будто на похороны, и слушают перебранки в советском эфире. Человек выслушивает коленными чашечками и нищие ленинградские пивные, тяготы в поручнях и стойках, в граненых литровых кружках. Как люди в помятых мягких шляпах и перетянутых кушаками пальто выскакивают, перебродив, будто ошпаренные, будто вспученные, и бегут куда-то через вытоптанные пустыри, через задние голые дворы, дворы-колодцы.
Он ослаблен, город набил оскомину и не дает (сколько лет зажимает рот), не дает сказать слово. За получку, которой (он-то знает) скоро вообще не будет, и ничего нельзя будет ею измерить, они сливают в бачок выкопировки его духа и ждут только сигнала, чтобы отправить их дальше, по этапу — в унитаз, и еще глубже — в канализационные коллекторы. Но приходит указание: вынуть и всмотреться, и он все еще напоминает туалетную, подвальную, отопительную лирику, хотя груз — огромный, многотелый — для стадионов. Он подготовлен, прикреплен к поршням, лопастям вертолетов — не свалиться бы им пяти переносов кряду. Впрочем, кресты-то они поднимают на купола; колокола поднимают.
Но пока под облачка сигарет, в кессоне утилизации человеческих отбросов космическое действие фильтруется. Они будут вглядываться пристальнее и пристальнее, пока за спиной не грохнет, не грянет в дверь. Пока их не возьмут в заложники в их отделе культуры; в районном отделе, в городском.
13.
А он прорубит окно в стадион. Сохранятся старые записи: Донбасс, Олимпийский (последний концерт). Он — рекрут, рогалик в руке силы. И стадион укрепляет то, что можно условно назвать манерой расцентровки, то, что не удавалось вполне в густонаселенных квартирах, перебитых щелкающими ставнями, предотвращающими выпадение жильца из жилища. Небезызвестный Иванов, в кармане которого БГ обнаружил Сартра, Иванов, увлеченный дамами и сравнительным анализом вина в проходных уборных, заколоченных ванночками для младенцев, смотрел всегда немного мимо его распорок, слег, размечающих, расчищающих свободное пространство между обстоятельств быта, настойчиво вторгающихся и сжигающих время. Сартр тут оказывался близок к чемоданам портвейна и напряженным вонючим перепонкам переполненных уборных. Иронические перепевы, посвященные Иванову, выходили новороссийской интеллигенции БГшного пошива откровенно задом: оплеванный, терзаемый внутривенной склокой Иванов был встроен в корму всего племени без исключений, дневал и ночевал в прикованных к продавленным диванам задницах, в длинноволосых поцах, юродствующих на обломках империи. Медитийствующие, урбанизированные, частично оскотинившиеся бродяги, которых сладко взяла за жабры свобода воли, умели только реветь от боли, словно иерусалимские ослы, но топтались на месте, и так и не преодолели со всей перегарной, с бодуна надутой метафизикой стройные руины порталов советского строя.
Он думал о другом: стадион овальной медалькой учреждал коварную перспективу, лунную дорожку, края которой не пересекали, не способны были пересечь никакие течения, знаки, шумы, помимо его голоса и звука. Публика, нацеленная на сцену, расправляющаяся с ней, будто с мишенью, расправляющаяся с самой собой в освещенном певческом круге, в гремящих, раскрывающихся раковинах натянутого звучания, толпа, отхаркивающая свои желания его голосом, страсти неосознанные, крестовоздвиженские, мысли Гефсиманского Мерцателя.
Его линия в списке персон была отчеркнута иным героем: бравый Саша, опрятный умелец, беззвучно натягивающий на себя всестрадающий мир, скрытный мастер, истязающий себя радением за других, отрекшийся от кургузого «Я» и укрепивший себя, будто идиот, будто благородный дон Румата Эсторский, между строк деяний, непонятый, увязший в мелком, кудрявом, склочном, но сковывающий тайным намерением в пучок-феномен разнообразную клепку суеты: все вразнобой, но и вместе. Свечение между скупых строк предложного падежа читается с усилием: в иронической балладе в него с трудом верится, оно искрит, будто сломанная розетка, и в неподвижности зафрахтованного бракованными сургучными печатями мира бедный рыцарь выглядит абсурдно, как гибель де Бражелона, до которой мало кто доходит, рассверливая масштабный палимпсест Дюма. В бесконечном диктанте обыденности Саша рябит бунинским темно-красным яблоком, он выдается балконной жилой, он — герой, и это сказано без обиняков, но иронически, и оно только так стыкуется с программным упадничеством тех, кто кричал ему «попса» в последние годы. Но ирония вовсе не отменяет подлинности героического: просто напечатанные строки передают оборотную, низовую сторону этого удивительного избытка, ирония в черных знаках, в то время как символическое в промежуточной белизне разгорается скрипичным пожаром: паузы скрипят в крике, как и положено поэтическому тексту. Ни минуты отстраненности не позволил он себе, не поддался искушению крепкозадого скептицизма, который бревном по хребту прихлопнул Васисуалия Лоханкина и несчастного Иванова. В то время как Иванова в начале текста ставят раком, уравнивая его с согражданами, наделенными беспросветным пятаком (ни Сартр, ни именование трамвая «колесницей» не спасают Иванова), Саша обладает правом на самоиронию и, продолжающее ее, чувство собственного достоинства. Он умеет посмеяться над собой, но за гарнитурой маскарада на нем — невысказанные и тем подчеркнутые суровые облачения. Простота смыкает героическое и героя, символическую функцию, позицию литературную и клавесин намерений, обряд инсталляции конкретного.
Накрыть звездное небо бессрочного, на деле перекупающее (наконец-то!) людей у советского быта, у ленинградского дома, который Кривулин обозвал «почвой бездомности», возможно было оргиастическим нахлестом стадионов, дионисийской деконструкции. Он чувствовал это изнанкой, как и непроговоренные желания людей, и осознавал отчетливо, как главный конструктор ракеты.
12.
Отдельным вопросом в этом поле, на котором он был единственным воином и монахом, и строителем, и садовником, в этом море, на котором он был кормчим и пиратом, была она, не укладывающаяся в стадион, занимающая целый стадион плахой своих грудей и полуприкрытыми глазами, разлегшаяся посреди всего, обнаженная, утрамбованная в него так, что скользко ступням — их подталкивает изнутри, и вечно по голым подошвам течет ледяной бесчувственный пот. Она разрубала любое слово, не давала связать его с другим, он всегда оказывался перед ней с опущенными руками, глупый ремесленник, не знавший, за что взяться, чтобы не испоганить этот мир перед ней. В общем, он был снова мужчиной перед женщиной, а вовсе не героем, пистоном символического в заднице весьма конкретной исторической ситуации. И это еще раз убивало его нежное исподнее полотнище нервов. Она, он и стадион, и Саша (и сын, и рыцарь), и сменяемые контексты, и сосны на морском берегу, лелеемые, казалось бы, оплаченные, больше, чем деньгами, всей кровью омытые, чтобы можно было хотя бы однажды сместиться туда со своего стояния — бдения на коленях (публичного, то есть перед публикой) в прозрачной пробирке, в которой варились и перекатывались туда-сюда какие-то еще микробы и культуры, загораживавшие его от публики, скрывавшие и тянувшие мрачные щупальца — из самой тьмы и варварства, и какого-то чудовищного забвения всего — чуть ли не до алфавита (он всегда стращал себя этим в виде перепачканного, обрыданного лысым, полустертым во времени и пространстве мужиком телефонного справочника (очень толстого), пересыпанного мукой и грязной жижей в советской столовке, пустой, холодной, с сальными, жирными столами, неосвещенной) — вся эта вращающаяся вакуумной, сосущей центрифугой утроба доставляла массу неудобств, боли и мешала работать, очень сильно, и она же была непременным условием возможности работы.
И всё снова возвращалось к ней. Она была девочкой из хорошей семьи (звучит, как строчка для его песни, готовая строчка, с этого места надо было бы сразу начинать читать белое между череды черных значков). Она была развернута лицом к университету — конечно, советскому университету, раздавлена им в лепешку, ее отец и брат были известными очко-гляделками, скептически настроенными, знающими цену шатровому искусству конца восьмидесятых, и какого труда стоило вырвать ее из компаний обкомовских сыночков, стервозных подружек с мордами отцовских черных Волг. То есть на самом деле никакого труда, потому что она сама заприметила его на съемках «Ассы», но для этого требовалось пройти весь путь до съемок «Ассы», где на таинственной фигуре Неудовлетворенного-всем и его песне строится хребет, нить. Ведь это были такие фильмы: он обеспечивал и кассу, и смысл, без него они лишились бы всякого острия, режиссерам просто надо было окружить его декорациями, осенить временем, каскадом времен; найти вокруг его приметы. Остальное было заложено в кристально серебристом сиянии бетонного лика.
Она, конечно, давно уже отбилась от рук: промискуитет, который фигурировал тогда в союзных точках высокой напряженности, добрался до всех маменькиных сынков и папенькиных дочек. Он был не первым. Но когда семья узнала, кто следующий, нервы резко сдали. «Асса» попала на фестиваль, и обнаружилось, что ситуация вовсе вышла из-под контроля. Девочка обернулась игрушечной тигрицей и рассказала журналюгам все, что в семье оставалось за кадром, для внутреннего употребления. Сообщество кинематографистов со злостью вздрогнуло, когда речь зашла о папином кино. Образовался разрыв.
Думая обо всем этом, он вынужден был вынести любовь за скобки, любовь и ее красоту. Начальственный лик прекрасного не признавал никаких уяснений. Но в остальном ему представлялась мозаика с Н. удивительно очевидной и законченной: не верящий в Бога и черта сборщик податей, носитель пера, чернил, динариев, опробовавший всю мерзость на вкус и видевший падших, но не падший, посторонний Камю, чудом сохранивший нутро, припрятавший его, обернулся к свету. В этот раз сияние шло из диковинного места — с рампы, а звуки, раздававшиеся со сцены, напоминали сухой хлест теннисных ракеток и мелодичные переговоры в перерывах между подачами. Не было сомнений, что утянуть ее одной петлей невозможно, немыслимо. Да и не в его правилах. Короткие замыкания в кулисах, в темных переходах, гримёрках и взгляд из администраторской будки (условной) в кадр вывязали для нее жилет с остроконечным ромбами, и эти ромбы в итоге абсолютно точно совпали с тем, что было нарисовано у него на груди. Он боялся, что дальше сказанного дело так и не двинется, и они не приблизятся друг другу больше ни на шаг, потому что речь идет не о шагах, а о квантах, о курьезных квантах символического и реального, нано-единицах языка и бытия, извлекаемых с таким трудом двумя мастерами — господином и рабом, учителем Смерть с овчаркой и голубыми глазами и Паулем Целаном, который не сумел вырыть себе могилу в воздухе, но зато, пытая химическим способом молекулы на прочность, доверчиво повис на ниточке воды. Над Сеной.
11.
Так или иначе, но теснины ее тела лежали сейчас рядом с ним. И на его стадионах, и в подземных переходах его стихов. Он даже не помнил, как оказался снова в кровати, когда пора вставать. Надо разбудить ее, дать легонько пинка по тонкой лодыжке, наделенной такой божественно красивой, подтянутой, будто лук, икорной мышцей. Наподдать ладонью по иссеченным ночью ягодицам. По их крутизне, по мяте пушка на них. И только космический прах — на мебели, на балконных ставнях, бетонных ямках, решетке, на проводах — отвлекает от ее крещендо, от беспочвенный, твердотелой, мышечной любви. Он чувствует небо снаружи так, как будто оно сквозь позвоночник продирается к его крестцу, будто он привязан к низким облакам торнадо и мечтает, чтобы он вышел из дому.
10.
Почему он так сгорблен, насуплен, напряжен в машине? Он радовался ей, как ребенок новой игрушке. Они с сыном радовались одинаково. Они ходили вокруг, дергали ручки дверей, пробовали двигатель. Она стояла, сложив руки на груди. Терпеливо. Ведь она уже женщина, не девчонка. Она знает, как обращаться с мужчинами, как с ними справиться, что позволить, чтобы в них не отощала сила, чтобы не расклеились позвонки. Пусть возятся. Есть время. Хотя изнутри, подспудно, как всякую женщину, на которую легла ответственность (да еще какая тяжелая!) за мужчину и мальчика (пусть не ее родного, но сына этого мужчины!), ее раздражает бессмысленная возня с этим звериным агрегатом, угрожающим бесчисленными неизвестными опасностями. Она не боится его, но, не зная назначения рычажков внутри и происхождения рева, который начинается, когда водитель жмет на газ, не хочет последствий, никаких непредсказуемых результатов, которые могут быть, когда аппарат испытывают, пробуют на разные нагрузки, крутят так и эдак, и непонятно как, и может откуда-нибудь случайно стрельнуть. Автомобиль должен ехать, это его естественное состояние. А играться с ним так-сяк — это неправильно; наверное, опасно.
Наконец, они выезжают. Машину плавно качает — ребенка убаюкивает, водитель крутит руль туда-сюда, проходя поворот за поворотом. Ее настигает знакомое чувство пути. Так тяжело с этим мужчиной, которого постоянно нет, он на гастролях, в студии, на репетиции, она всегда одна в квартирке на Удельной, в этом двухэтажном домишке. Она покинула своих друзей, потому что они никак не подходили к ее новому образу жизни. Но разве она сгодилась его друзьям? Люди промежуточные, случайные, между его и ее миром, говорили: с ним она не пропадет, а короткие перебежки — от него к нему — придется перетерпеть. Там, в просветах, ей делать ничего. Остаткам общественного, с которыми он еще как-то связан, она чужая. А вообще-то, если честно, никаких человеческих связей в промежутках вовсе нет. Так говорили те, кто знал ситуацию досконально, вдоль и поперек. Кто знал группу, продюсера, новых знакомых, кто здраво оценивал Ленинград и Москву.
Нынче можно расслабиться: очередной длинный просвет и еще серию коротких она перебежала, почти без его помощи, не мешая, сохраняя параллельный бег. Особенные, тяжелые просеки позади. Она сохранила себя, не сорвалась, не прильнула, как невесомая ткань, тряпка, проще говоря, чем и гордится. Она откинулась на сидении, конечно, стукнулась головой о потолок.
9.
Повороты сыпались один за другим с уверенной, броской частотой. Высоко поднятые колени стукались друг о друга. Она держала их руками. Начинались редкие сосны: они приближались к побережью. Скоро будет Пирита. Хозяйка домика, наверно, как всегда, ждет на пороге. Короткий, густой прибой булькает и пищит, пашет у самого берега, отзываясь в створках земли, как целая армия работников — уборщиков урожая, сеятелей. Пустозвон комбайнов, рев молотилок, мелкий дрязг грузовиков. Они подъезжали к морю, а оно готовилось накатить на них. Как накатывала на него музыка. Волн.
Сандалии были припечатаны у сосны. Может быть, он их забыл, а потом — обернулся там, в машине, отвернулся от ветрового стекла, отвлекся и…? Стройная голосистая сосна была абсолютно прямая и очень мужественная, и она должна была быть такой. Решительной, злой, кроткой, смиренной, завернутой в непроницаемую кору, высокой и очень мужественной. Ей оставались последние спокойные минуты на ревене морского берега, в золе осыпавшихся иголок, в бесноватом, ноздреватом мху. Его голос был еще где-то здесь, в барашках подмерзающего прибоя, тлеющего серым, неприглядным днем. Он любил свое северное море, голубоватый очерк брызг, керамзит бурунов, снулые провалы, подъемы. Море говорило часто за человека. И он говорил за человека. Стирал зазорное, сопревшее у человека по неуклюжести. И море терпеливо высасывало тот же сорный гной самородками своих текучих губ. Они приникали к одним язвам, один и тот же репейник вился у их стремян (Соседям тревожно, им слышится стук копыт. Мешает уснуть. Тревожит их сон. А те, кто не могут ждать, отправляются в путь. Садятся в седло. Их не догнать. А тем, кто ложится спать, спокойного сна.). Его и море подвели, подводили каждый раз трещины суши, людские проплешины на ней.
Конечно, женщине казалось, что силы оставляют ее, почти совсем покинули. Она прислонилась к сосне, прижала колени к груди, покачивала ими в такт прибою. Руки свалялись в горе, как вырезка войлока. Она говорила себе — неразборчиво, бессвязно, только чтобы издать звук, чтобы услышать себя — еще жива, и она услышала его голос — в сдувшемся паруснике ветра, в его регатах, треске канатов и рулей, в бряцании моря, в клекоте его орудийной прислуги, и она услышала тембр его голоса в своем голосе; и не могла вспомнить те слова, которыми вчера вечером подгоняла его, чтобы он успел к вечернему клеву. А он собирался так медленно, молча. И думал: а не взять ли сына? И оставил дома. И когда укладывался (как всегда) думал про себя тихонько о смерти; и о всяком пути, как о последнем пути. Так что же это были за слова, такие, которые вынудили его вновь (как и раньше) оставить следы, а затем не только следы, но и сандалии на этом невидимом снегу, в снегах незабвенного степного волка нашего, дона Орасио Оливейры?
8.
Он никогда не требовал, чтобы она рассказала ему что-то такое «всё». Он слишком много молчал, чтобы взять и потребовать вдруг такое. Она не верила, что мужчины-болтуны, в потоке слов вдруг, неожиданно, в постели или на веранде могут бросить своей женщине: расскажи мне всё — и тогда она, в смущении, должна вывалить перед ним что-то из своей нижней юбки, а иначе ее ждет месть — холодность, забвение, тягость. Он не требовал ничего, но, наверное, хотел немногое всё же знать (кто из нас без греха?), а она намеренно не рассказывала и так добавляла что-то в сплав его воли. И этим он жил.
7.
Иглы, бывало, стекали с его макушки на ее затылок — невольно. Когда ее красота и его непонятливость достигали предела. Он все время думал, как мало времени, как досадно будет, если он не успеет что-то узнать, а что она могла ему рассказать? Она так недавно почувствовала себя женщиной. Раньше металлы общественного времени отвечали разнообразным трезвоном пропыленного: пойди туда, достань это, потом пойди туда, достань то, туда-сюда, и в итоге выяснилось, что в самом конце, наверное, ничего и нет. Уж больно бессмысленным был путь. Она набиралась опыта в синеве, в его темноте, в стуках, в голосе, и ничего не могла поделать с тем, что он чувствовал себя все более неуверенно и часто из постели, обняв ее, со страхом смотрел в будущее — на две полоски солнца, пересекавшие пододеяльник. Она чувствовала, как становится холодно его затылку, и подбирается что-то вроде боя или они плывут в засаду, и, чтобы встретить ядовитые гроздья погибели, ему нужно выйти на балкон, нависнуть над жухлым полем Удельной.
6.
Иногда она подглядывала, как камеристка, будто бы приподняв фартучек, возбужденная, за резной его деревянной фигурой, широко расставленными ногами, убранной в потолок головой. Она наблюдала за этим назревавшим ракетным ударом, он означал, что под черной обложкой может появиться еще одна песня.
5.
В шелестящей масляной лампе глох ропот голосов. Дверь в прихожей захлопнулась: Н. их выпустила. Все вокруг облеплено темнотой, она, будто мокрый снег, заледеневший сугробами на земле и стенах домов, бугрит мебель, провода. Лампа рассеивает и искажает формы. В чадящем воздухе по черепку, по волосинке собирается разочарование от встреч. Электричества нет с вечера, поэтому масло все коптит, уходит в сутолоке усталой тяги к раскрытой балконной двери. Ночь занялась дровяными всполохами, карманные огоньки вспыхивающих, мигающих фонарей видно за окнами слева и справа, а за ними суровое, злачное поле, поднимающееся смутно наждаком колосьев, в котором он видит каждый качающийся стерженек отдельно — тонким стилетом они угрожают кабине на Удельной, угрюмому лифту, в котором он выдерживает последнюю паузу, наполняя останки бурдюков мелодичным журчанием воды. Стебли, перебитые жерновами ветра, сами ощерились лезвиями — молотящими, колющими, режущими, вспарывающими, они несут на себе осколки пил, поршни мясорубок, ноздреватые губы терок. А терпкое стрекотание капель отдается разоренным эхом в гудящую пустоту сосуда: он не мог избежать опустошения, судороги жажды посещали его часто, игра с водой, испытанное средство жить, перевоплощалось в пытку, и ему приходилось идти на компромисс: отпить — то здесь, то там — из полупустых керамик, из дряблых бурдюков. Нежные позвякивания одиноких капель, переходившие былыми днями в румяные шумы струй, потоков, постепенно сменялись суровыми стуками одиноких дроздов — он доил сосуды ночами, приветствуя каждый перстень воды, пролетавший из верхнего хранилища в нижнее — испытание превратило разрез ночи в муку, и запасы истощались ото дня ко дню. Нынешний вечер был всего лишь очередным сеансом сухого, смрадного трения, опадания глиняной пыли и крошки на ткани его души. Группа не чувствовала сегодня колонтитула ожиревшей песни, и пасека, его надушенная пчелами, медом, жаром лета пасека, отруб, взращенный в потеках золотого воска, будто облетела белая, снежная соль пустыни, порошком, в котором дело гноилось, как отрубленная от свежей крови печень. Он озирал ледовитое поле, отворенное от лампы, смирившийся и успокоенный: сроки были так ясно вычерчены трещинами; пора было оставить земледельческие порывы, зачернить порог, откатить камень с края поля. Настырность его отступила так легко, как будто не он шел десять лет к тому, чтобы, не прерываясь ни на минуту, именовать, переводить и утрировать до конца жизни. Он забыл усилия, горечь, скуку; безнадежность; он не жалел о пройденном и о том, чего больше не может быть. Ему не пришлось уговаривать себя. Пустынный промерзший плёс с монастырскими окопами и оградами на противоположном берегу пришел к узкому фитилю и затушил его огонь.
Собачья грива чешется в темноте: языки черного бегают по ней, линяют углы света от лампы. Собака забрела сюда вслед за хозяином, но так случилось, что хозяина, большого, костлявого, в прокуренной фланелевой рубахе, болтающейся поверх матроски, хозяина вынесли на носилках, на перевязанных металлических стержнях, а пес остался до поры до времени, прижился. Он был здесь чужой, будто восковая кукла. Сальными рассветами скулил на балконе, вечером, задрав хвост, наблюдал игру теней, как язычки и ниточки бегут по оранжевым обоям, окрашенным лампой в южные, жаркие цвета. Хозяева были не мягки, просто податливы. Стоило подойти к ним ближе, их оттирало от тепла и света, и только темные глаза пристально смотрели на собаку — издалека, раздумчиво. К чему было затевать испытание дружбой, если через неделю пса должны были забрать? И все же, дом пополнился скелетом, бродящим между живыми следом за тенями — чернозубым Б., костлявым Л., сизым от сигаретного дыма, припорошенным пеплом М. Хозяева были заняты вполне каждый своим. Мало говорили, всё высматривали, казалось временами, что они не могут различить какие-то очертания, цвета, выделить формы, они рассматривали что-то, потом с досадой отворачивались, вновь возвращались к крупам и солям, к мозаикам небрежным, рваным, иногда грубым.
4.
В буром сумраке квадратики окон соседних десятиэтажек напоминают перфокарту — одно освещено, другое — нет. И так — вдоль и поперек, совиными крыльями раскинулась по полю бетонных плит темнота. Иногда ее прерывают мелкие точки света. Они могли бы принести некоторые знания о себе: что там, за освещенными стеклышками? Неполная семья — вдовец с сыном — едят со сковородки. Усы отца топорщатся, подбородок небритый, седой. Глаза красные — от бессонницы. Ведь надо гладить, стирать, готовить. Крупные руки увязли в мокром белье, плащанице таза, зарешечены узлами простыней. Он ворочает их упорно, влажную, тяжкую белизну, он согнут вдвое под лампочкой и осыпающейся штукатуркой. На перфокарте бетонного фасада, в ночной темноте, он — только точка. Да — нет. Свет — тьма. Мальчик крутит головой: он пьет чай из кружки — божьей коровки (белой, и везде поналяпаны красные кружки, бабушкина кружка), работает телевизор, на кухне свет, в коридорчике свет, в ванне свет, и двери все распахнуты. Стол в разорении, мойка завалена грязной посудой. Вокруг ребенка двигается толпа несуразностей, такого раньше не было, два месяца тому назад (все дни сплелись в расстроенную, натянутую струну) в это время они спали. Три человека. И на перфокарте не было дырочки, кружка: темнота.
Темнота плещется за фасадом, бьет рыбьим своим хвостом, пучит глаза. В ее клетках ютятся занозы: подтягиваются кожаные ремешки, сбруя, тяжелые переметные сумы, старенький запорожец гвоздит ночь фарами. Соседи ворочаются на своих постелях. Они встают посмотреть, что стучит во дворе в поздний час. Они видят, как в обрывках, кружках света мыльным блеском покачивается машинка. Наверху кожаные тюки, закрепленные широкими ремнями. Соседи снова ворочаются и потеют от страха в постелях. Глотают воду, аспирин. Не помогает: в ночных сборах — сигнал перемен. Их страх становится облыжным обвинением: все направлено против стука копыт. В углу бьют тревогу костыли, тапочки. Саша выныривает из окна запорожца и прощается. Он машет рукой, всадники уходят асфальтовыми тропками, мимо пыльных гардин околотка, почтового отделения, переполненной опилками школы. Микрорайон перегрелся. Вместо перфокарты в щель вставили штык-нож. А потом провернули.
3.
Я получил разрешения: казалось бы, готова форма и задана. И всё же всё передо мной витает в отчужденности — каждое слово, будто чужое. Принуждение связывает самолет и землю — сходные тверди — кто велел им быть вместе? Кто разорвал поперек? Лаконичность моя обитает, будто тяжелые ризы, в храме, и изнутри, из-под короткой фразы, норовит выстрелить вверх капканом — к надалтарным фрескам, к купольной росписи.
Я вынужден писать из растерянности, разграбленности — перед Великими мастерами прошлого так стыдно и тоскливо стоять — голому. Кривобокий и худой, спеленутый ребрами и выдающимся хребтом — я пишу, не чуя под ногами вовсе ничего — ни слова, ни собственных пальцев — все уворовано нищетой страха — он проглотит мои потроха печальной своей пустотой, и вновь мне нужно сесть к столу у сельдяного окна, в рукавицах собственных рук, облепленным мертвой рыбой в ледниках.
Самолет пропахал небо перстнем с печаткой, праща креста отпечаталась белыми полосами, и над кириллической сетью земли вварена теперь резь тонкой рамы. Размеренный, русый (электрический свет мешает уснуть) гам в салоне схвачен удавкой (галстуком) сопения Р. и Д. Стереофония двигателей в ушах. Новый, невиданный звук. Они ссекали небо с океана — крыльями, реактивными турбинами — сдергивали облака. Он мог спокойно подумать, пока все спали. Пока двигалась невидимая ночь. Руки скрежетали о подлокотники кресла. Прямо костями: так было страшно лететь. И думать: сотни тонн металла поднимаются в воздух и двигаются в нем, на огромной высоте, вопреки притяжению, вопреки тому, что человек и камень прикреплены к поверхности земли. Он видел внутренним глазом не катастрофу, не падение в волны (это было бы избавлением в определенном смысле), а траекторию полета (со стороны) — маленькая черная точка на обширном небосводе (как провокация) и океан — далеко внизу (всегда сердитый). Карамель, мякоть кресел, плюш, бархат, велюр — все лезло в лицо и трещало по швам: приукрашенный остов, казалось, ухмыляется смерти. Отвратительно.
2.
Массивные пластмассовые колонны, портики, решетки (из ваты?). Полицейский маячит позади — около машины. За яркими декорациями нет патрулей. Скважин, речей, проема стянутых за спиной рук. Там не колосится порядок, шелестя из глаз предупредителя преступлений. Нет отмашек, салазок с мигалками, а британского копа можно смело ткнуть в плотное пузо: он восковой. Раскрашенный, кричащий мирок в осаде: дети повсюду. Они висят на микки-маусах, катаются по американским горкам, бегают по трапам пиратских кораблей. Буроватая кожаная куртка, стертая на локтях, сдавливает грудь водолазным костюмом — человеку, одетому в опаленные, переперченные, залитые соусом спагетти, нечего делать на камбузе, где едят собаку. Пластмассовый домик справа напоминает топливную канистру — тонкая печная труба нелепо торчит в голубом небе, будто горлышко. Замок ужасов чернеет грудой расплавленных автомобильных шин, он даже чувствует запах горелой резины. Вигвамы тяжко веют на ветру — губчатыми жердями из растительных полимеров. Он устало присел на дорожную тумбу, а вокруг все продолжало блестеть, крутиться и беззаботно посвистывать. Закутки оказались вдоль и поперек фальшивы, но никто этого и не скрывал. Под ладонью не было монеты, но была сама ладонь. Это повод, неизбежно печальный, подумать о том, чего может быть достаточно. Он оглядывался, дубасил окрестность пробойником глаз, гремел жестяными кастрюлями раздражения, но все это было бесполезно, потому что картонный городок строили те, кто был знаком с гарлемскими трущобами, и видел Вьетнам (воочию), и знал о Хиросиме и Нагасаки, и все-таки лазурная площадка, выселившая отсюда вечно первичную мимозу страха, работала, она мироточила, она была почти иконописна в своей бесстыжести, броской оголенности, грубости, откровенности. Из пустыни широкое шоссе постепенно открывало вид на башенки, зубчатые стены, холмы (неподобающе зеленые посреди песка), озера, дорожки, проложенные на высоких эстакадах железные дороги. Он попробовал все: прокатился, прошелся повсеместно. Галдел, рвался вперед, съел мороженое. Он неистово окунулся в призрачные состязания и выдохся в них. Они уводили его под руки, и на истощенном, сжавшемся теле кожаным набатом, колоколом надувалась куртка, и тянула его вперед, как парус.
1.
— Он говорил: «Раковина жизни — рана. Я ранен рождением».
— Он родился поэтом.
— Он выпилил себе линейку, чтобы рисовать на ней сосны.
— Каждый раз, когда луна.
— Когда тучи.
— Когда их гонит ветер.
— Когда бой.
— И ставить красную точку.
— Когда красные звезды.
— Раскаленные.
— И тогда будут темно-серые сосны…
— Жемчужные…
— Силуэты…
— Под звездным небом…
— Кровавым…
— Его кормили вымышленной едой.
— Он не желал брать это в руки.
— И он был голодным.
— Всегда.
— Он говорил: «Квартира — это костыль».
— Говорил: «Это морг».
— «Это сосновый ящик».
— И сверху крест.
— И поэтому ему было так неуютно.
— Несладко.
— Печально.
— Стыдно.
— За тех, кто рядом.
— За позор ближнего.
— За пугало смерти.
— За молчание.
— Он говорил: «Помоги мне уцелеть, если все предназначено мне».
— Он пел: «В Святом Граале раствор».
— «Химический состав на рукаве».
— «Помоги мне не остаться в Гефсиманском саду».
— В Иерусалиме.
— В руках первосвященников.
— В руках Пилата.
— В накидке народа.
— А ему говорили: «Не дай крови остыть. Народу нужна горячая».
— Кипятить помог жаркий день.
— Солнечный путь.
— Цветочная улица.
— Без тени.
— И все самолеты улетели без него.
— Хотя он смотрел на них сорок дней.
— Как они взлетают.
— В небо незнакомых звезд.
— Оставляя ему лишь тень.
— Пустое небо.
— Пустое окно.
— Он разделил между сорока днями пачку сигарет.
— И ушел по истечении сорокового.
— Звал за собой всех, кто встречался.
— Они говорили — им нельзя рисковать.
— И он не настаивал.
— Он не знал, кто прав.
— Он делал свое дело.
— Пил свою чашу.
— Он говорил: «Почему наставлен сумрак ночи?»
— Он говорил: «Тысяча биноклей! На оси!»
— И все оставалось без ответа.
— Да, на него не слишком-то обращали внимание.
— Тогда он обратился к соседям.
— И правильно сделал: вдруг им наскучит их ласковый свет?
— Тогда им нашлось бы место рядом с ним.
— Под небом всем хватит места.
— Дождливым.
— Пасмурным.
— Грозовым.
— В общем, неприветливым.
— Когда оставалось немного времени…
— И проходила печаль…
— И ирония…
— И жалость…
— И тревога…
— Да, тревога…
— Он думал о тех словах, которые заставят его…
— О, наполнить эту чашу…
— Оставить след на снегу…
— Просто подтвердить.
— Удостоверить смертью.
— Что он был.
— Был так.
— Как был.
— С звездной пылью на сапогах.