В настоящей работе мы будем рассматривать литературные тексты, которые, в том или ином смысле, обладают фрактальной природой. Поясним сначала, что собственно представляют собой фракталы.
Термин фрактал появился в 1977 году, с выходом в свет году книги Б.Мандельброта «Фрактальная геометрия природы». Слово фрактал имеет латинский корень fractus — состоящий из частей, фрагментов. Мандельброт определил фракталы как «структуры, состоящие из частей, которые в каком-то смысле подобны целому»1. Фракталы быстро стали популярны, не в последнюю очередь благодаря красочным компьютерным иллюстрациям Мандельброта.
Внимательное изучение фракталов привело к пониманию, что они существовали и были известны ученым (Пуанкаре, Фату, Жюлиа, Кантор, Хаусдорф) и до Мандельброта, и заслуга последнего состояла скорее в привлечении внимания к этим структурам и указании на чрезвычайно широкое распространение фрактальных объектов в нашем мире.
Из рукотворных, математических кварталов известны кривая или снежинка Хельги фон Коха, треугольник или решето Серпинского, и другие, строящиеся с помощью некоторого алгоритма, примененного к кривой или поверхности.
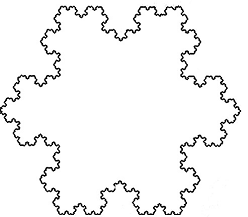
Для таких кривых часть рисунка n-ной итерации будет в точности тождественна части (n-1)-ой итерации большего размера.
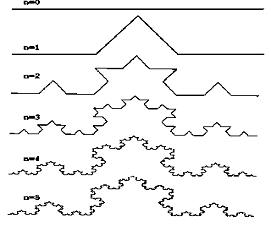
Фракталы Мандельброта, представляющие собой изображение в фазовом пространстве областей притяжения к различным аттракторам, при увеличении масштаба изображения не копируют в точности целое изображение, а воссоздают его подобие.
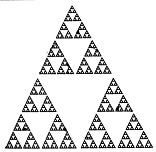 Для таких объектов свойство фрактальности, то есть схожести структур целого фазового пространства и его части, повторяется бесконечное количество раз — при увеличении масштаба элемент исходной картинки аналогичен всему объекту, элемент этого элемента при увеличении также аналогичен его предшественнику, и так далее.
Для таких объектов свойство фрактальности, то есть схожести структур целого фазового пространства и его части, повторяется бесконечное количество раз — при увеличении масштаба элемент исходной картинки аналогичен всему объекту, элемент этого элемента при увеличении также аналогичен его предшественнику, и так далее.
И эти сложные математические объекты, создание которых невозможно без помощи компьютера, привлекают неизменный интерес людей, чрезвычайно от математики далеких, привлекают своей завораживающей и повторяющейся красотой, подобной очарованию сменяющих друг друга картинок в детском калейдоскопе. Последовательные сходных изображений погружают зрителя в волшебный ирреальный мир, кружат голову идеей бесконечного повторения, тождества и подобия — в масштабе, пространстве и времени.
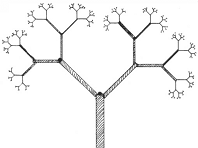 Заметим, что в действительности требуется не так много итераций, чтобы объект воспринимался как фрактальный. Стремящийся к большим и бесконечно большим числам человеческий разум в реальности вполне удовлетворяется числом итераций, лежащим где-то между психологическими константами три и семь. Снежинка Коха на нашем рисунке представлена пятью приближениями, у дерева можно обнаружить семь развилок, что уже убеждает зрителя во фрактальности объекта. Рассматривание последовательности увеличивающихся масштабов фракталов Мандельброта на компьютере, требующее от наблюдателя только нажатия кнопки мыши, обычно не идет дальше трех-пяти приближений, после чего внимание переключается на другую картинку. Большие усложнения могут вызвать, видимо, только скуку, головную боль или, у самых настойчивых исследователей, психические проблемы.
Заметим, что в действительности требуется не так много итераций, чтобы объект воспринимался как фрактальный. Стремящийся к большим и бесконечно большим числам человеческий разум в реальности вполне удовлетворяется числом итераций, лежащим где-то между психологическими константами три и семь. Снежинка Коха на нашем рисунке представлена пятью приближениями, у дерева можно обнаружить семь развилок, что уже убеждает зрителя во фрактальности объекта. Рассматривание последовательности увеличивающихся масштабов фракталов Мандельброта на компьютере, требующее от наблюдателя только нажатия кнопки мыши, обычно не идет дальше трех-пяти приближений, после чего внимание переключается на другую картинку. Большие усложнения могут вызвать, видимо, только скуку, головную боль или, у самых настойчивых исследователей, психические проблемы.
А что же подлинная бесконечность, подлинное и совершенное знание? Видимо, она лежит за пределами человеческого восприятия. Как утверждал писатель XVII века Марин Мерсенн в «Quaestiones super Genesim», «наличие у человека чувства бесконечности уже является доказательством бытия Бога»2. Но стремление человека к бесконечному, принципиально недостижимому, есть одна из важнейших его особенностей.
После того, как термин «фрактал» был введен, стало понятно, что множество природных объектов обладают фрактальным строением — это и ветки деревьев, повторяющие более крупные ветви, повторяющие ствол, и снежинки, и кровеносные пути и нервы, разветвляющиеся на более мелкие пути, которые ветвятся на еще более мелкие, и карта мозговых полушарий, да и любая карта, при увеличении масштаба превращающаяся в иную карту, фрагмент которой при следующем увеличении есть еще одна схожая карта, и т.д.
Некоторые произведения искусства, в том числе литературы, также могут быть расмотрены как фракталы, вспомним хотя бы мечту о Книге книг — книге, состоящей из иных книг, — если это и не фрактал, то первая к нему итерация.
Попытаемся сформулировать, как можно соотнести фракталы с произведениями литературы. Мы будем рассматривать фрактал исключительно как произведение искусства, оставляя за рамками нашего исследования определяющие математические формулы. Тогда характерными чертами фрактала будут следующие: 1) часть его неким образом подобна целому (в идеале эта последовательность подобий распространяется на бесконечность, хотя никто никогда не видел действительно бесконечной последовательности фрактальных итераций); 2) его восприятие происходит по последовательности вложенных уровней.
Пытаясь определить литературные фракталы, мы встречаемся с некоторыми принципиальными трудностями: во-первых, литературный текст, по сравнению с произведением визуального искусства, линеен, существует направление его прочтения от начала до конца. Впрочем, с этой особенностью текста успешно справляются как создатели палиндромов, закручивающих текст в двустороннее обращаемое кольцо, так и создатели интерактивной литературы, предлагающие читателю произвольно или по некоторому закону изменять порядок прочтения фрагментов текста.
Еще одной особенностью текста является его конечность. Эта особенность свойственна и визуальным работам, и именно фракталы вывели визуальные произведения за рамки формальной конечности.
Как же можно создать бесконечный текст? Этим вопросом задавался герой рассказа Х.Л.Борхеса «Сад расходящихся тропок»: «:я спрашивал себя, как может книга быть бесконечной. В голову не приходит ничего, кроме цикличного, идущего по кругу тома, тома, в котором последняя страница повторяет первую, что и позволяет ему продолжаться сколько угодно»3.
Посмотрим, какие еще решения могут существовать.
Бесконечные повторяющиеся тексты и их модификации
Самыми простым бесконечным текстом будет текст из бесконечного количества дублирующихся элементов, или куплетов, повторяющейся частью которого является его «хвост» — тот же текст с любым количеством отброшенных начальных куплетов. Схематически такой текст можно изобразить в виде неразветвляющегося дерева или периодической последовательности повторяющихся куплетов. Единица текста — фраза, строфа или рассказ — начинается, развивается и заканчивается, возвращаясь в исходную точку, точку перехода к следующей единице текста, повторяющей исходную. Видно, что отсечение «головы» — любого количества начальных единиц, ничего не изменит, и «хвост» будет в точности совпадать с целым текстом.
Неразветвляющееся бесконечное дерево тождественно самому себе с любого шага.
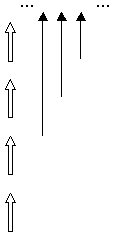
Среди таких бесконечных произведений — стихи для детей или народные песенки, как, например, стишок о попе и его собаке из русской народной поэзии, или стихотворение М.Яснова «Чучело-мяучело», повествующее о котенке, который поет о котенке, который поет о котенке:
У попа была собака, он ее любил.
Она съела кусок мяса, он ее убил.
В землю закопал,
Надпись написал,
Что
У попа была собака…
Вот море,
А на море сyша,
А на сyше пальма,
А на пальме клоп сидит
И видит море,
А на море сyша…
Чучело-мяучело
На трубе сидело.
Чучело-мяучело
Песенку запело.
Чучело-мяучело
С пастью красной-красной —
Всех оно замучило
Песенкой ужасной.
Всем кругом от чучела
Горестно и тошно,
Потому что песенка
У него про то, что:
Чучело-мяучело
На трубе сидело:
Или самое короткое:
У попа был двор,
На дворе был кол,
На колу мочало —
Не начать ли сказочку сначала?…
У попа был двор…
Другие стихотворения этого класса представляют собой череду противоположных утверждений или описаний, например:
Еду я и вижу мост, под мостом ворона мокнет,
Взял ворону я за хвост, положил ее на мост, пусть ворона сохнет.
Еду я и вижу мост, на мосту ворона сохнет,
Взял ворону я за хвост, положил ее под мост, пусть ворона мокнет…
К последним текстам можно отнести знаменитую притчу о бабочке Чжуан Цзы, если перефразировать ее следующим образом: «Притча о философе, которому снится, что он бабочка, которой снится, что она философ, которому снится, что он бабочка, которой снится, что она философ, которому снится…».
Заметим, что тема сна и сновидений еще встретится нам в других произведениях фрактальной литературы.
К подобным текстам относится и знаменитый парадокс «Лжеца», состоящий из противоположных суждений, записанных на двух сторонах одной карточки. Первое из суждений гласит: «Утверждение на обратной стороне карточки ложно», а другое: «Утверждение на обратной стороне карточки истинно». Перефразируя их в единый бесконечный лексически фрактальный текст, получаем: «ложным является утверждение, что истинным является утверждение, что ложным является утверждение, что истинным…».
С формальной точки зрения, развернутое в бесконечное высказывание суждение о лжеце представляет собой лексический фрактал без вариаций, связывающий в единую цепь взаимных отражений два противоречивых суждения, в чем проявляется и характерная для фрактальных текстов парадоксальность, и энигматичность, выводящая читателя из рамки привычных представлений о конечных логичных текстах.
Фрактальный рисунок для такого рода стихотворений возникает из самой записи текста. Структуру их можно изобразить в виде или «змеи, кусающей себя за хвост» (первый случай) или «двух змей, кусающих друг друга» (второй случай).
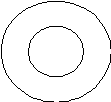
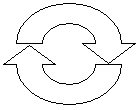
В кольце может быть и большее число звеньев, как, например, в случае замкнутой логической схемы из трех элементов, описывающей строение стихотворения для детей Р.Сефа «Бесконечные стихи»:
Кто вечно хнычет и скучает —
Тот ничего не замечает,
Кто ничего не замечает —
Тот ничего не изучает,
Кто ничего не изучает,
Тот вечно хнычет и скучает.
Если скучно стало — почитай сначала.
Заметим, что последнее стихотворение, в отличие от большинства бесконечных песенок, предоставляет читателю выбор — кружиться и дальше на бесконечной карусели или сойти с нее: «Если скучно стало — почитай сначала».
При этом само увеличение числа звеньев в кольце с двух до трех мало отражается на фрактальности бесконечных стихотворений.
В результате возникают в точности повторяющиеся «куплеты», которые производят бесконечную последовательность повторений, никогда и ничем не исчерпывающуюся. Попробовав повторять их действительно долго, мы легко увидим, что через несколько циклов повторений они потеряют и забавность, и очарование и превратятся в скучную, нудную, ужасную тавтологию. (Или в некую мантру, но этот случай мы сейчас рассматривать не будем.)
В отличие от бесконечных куплетов, фрагменты фракталов Мандельброта все же не тождественны, а подобны друг другу, и это качество и придает им завораживающее очарование. Поэтому в изучении литературных фракталов встает задача поиска подобности, сходства (а не тождественности) элементов текста.
В случае бесконечных куплетов замена тождества на подобие была осуществлена двумя способами: 1) созданием стихов с вариациями и 2) «бесконечных» стихов с конечной последовательностью куплетов.
Стихи с вариациями — это, например, запущенная в оборот С.Никитиным и ставшая народной песенка «У Пегги жил веселый гусь», в которой варьируются Пеггины приживалы и их привычки: «У Пегги стройный жил жираф, он элегантен был, как шкаф», «У Пэгги жил веселый глюк, он самый лучший Пеггин друг», «У Пегги жил смешной пингвин, он различал все марки вин», и т.д.:
Песенка из английской народной поэзии
СПЛЯШЕМ, ПЕГГИ, СПЛЯШЕМ!
Пер. И.Токмаковой + варианты бардов
У Пегги жил веселый гусь,
Он знал все песни наизусть.
Ах, до чего веселый гусь!
Спляшем, Пегги, спляшем!
У Пегги жил смешной щенок,
Он танцевать под дудку мог.
Ах, до чего смешной щенок!
Спляшем, Пегги, спляшем!
У Пегги стройный жил жираф,
Он элегантен был, как шкаф,
Вот это стройный был жираф!
Спляшем, Пегги, спляшем!
У Пегги жил смешной пингвин,
Он различал все марки вин,
Ах, до чего смешной пингвин!
Спляшем, Пегги, спляшем!
У Пегги жил веселый слон,
Он скушал синхрофазотрон,
Ну до чего веселый слон,
Спляшем, Пегги, спляшем!..
Сочинено уже если не бесконечное, то довольно большое число куплетов: утверждают, что кассета «Песни нашего века» вышла с двумястами вариациями песенки, и, вероятно, число это продолжает расти. Бесконечность тождественных куплетов здесь пытаются преодолеть за счет со-творчества, детского, наивного и забавного.
Такие куплеты уже не превращаются в безжизненную или изменяющую сознание мантру, они требуют постоянного активного сочинительства, пробуя различные бессмысленные комбинации в потенциальном поле бесчисленных возможностей, проверяя жизнеспособность словесной мутации на практике, и радуя комбинаторике соответствий и несоответствий: «У Пегги жил веселый слон, он скушал синхрофазотрон, спляшем, Пегги, спляшем!».
Другая возможность вырваться из бесконечной последовательности повторений — это изначально объявить о конечном количестве повторяющихся строф. К таким произведениям относятся: песенка про десять зеленых бутылок («Ten green bottles hanging on the wall…»), в которой куплеты различаются только числом висящих на стене бутылок, в каждом следующем — на единицу меньшем, чем в предыдущем, песенка про пять сосисок («Five fat sausages sizzling in a pan…»), которые постепенно исчезали со сковородки, песенка про десять негритят («Ten little nigger boys went out to dine…»), в которой различия уже событийные, аналогичная песенка про одиннадцать солдат Ю.Кима, и другие.
Изначально заданная конечность последовательности куплетов сразу же вносит интонации черного юмора в эти стихотворения. Недаром такие куплеты адресуются и исполняются хором, аудиторией, находящейся в состоянии эйфории — в баре, на слете КСП и др. Исчезающие герои стихотворений шагают в небытие с улыбкой на лице, под одобрительный хохот аудитории.
Интересно стихотворение «Четыре червячка», занявшее первое место в интернет-конкурсе бесконечных стихотворений:
Четыре червячка
Весеннею порою
Обедали с грачом,
И их осталось трое.
Три червячка встречали
Экспресс на Бологое,
Перебегали путь,
И их осталось двое.
Два червячка гуляли
Среди прибрежных ив,
Один ушел рыбачить,
Один остался жив.
Один червяк не вынес
Несовершенства в мире,
Метнулся под лопату…
И стало их четыре.
Четыре червячка…
В нем бесконечная последовательность куплетов по образцу простых бесконечных стихотворений, разобранных выше, соединяется с уменьшением количества лирических героев, свойственным конечным куплетам. Особенности функционирования этих лирических героев, земляных червяков, позволяют кольцу убывающих субъектов замкнуться на начало — и повествование начинается снова.
Возвращаясь к фрактальным произведениям, заметим, что с формальной точки зрения и куплеты с вариациями, и конечные куплеты так и не выходят за пределы схемы неветвящегося дерева.
Структурные фракталы
Существуют тексты, в которых фрактальная природа проявляется не в последовательности фрагментов текстов, но в их структуре. К таким произведениям можно отнести сложные стихотворные циклы, состоящие из стихотворений твердых форм, как то венки сонетов. Если сонет — стихотворение с заданным числом слогов в стихе, заданной схемой рифм и ритма, с небольшими различиями для традиционных французских, итальянских и английских сонетов, то венок сонетов представляет собой цикл из четырнадцати сонетов, связанных крайними строками — последняя строка первого сонета является первой строкой второго сонета венка, последняя строка второго сонета — первой строкой третьего сонета, и т.д., а все четырнадцать крайних строк образуют еще один, магистральный сонет, в котором и заключен общий замысел всего цикла.
Сонеты и, почти одновременно, сонетов были появились на свет в конце XIII века. В этот период человек глубоко верил в гармоничность и «правильность» мира, несмотря и даже включая его жестокость. В представлении средневекового мыслящего поэта весь мир являлся отражением Божественной сущности, и в различных своих проявлениях — отражением других своих отдельных проявлений и отражений. Каждая истина вещала об одной и той же главной и непогрешимой истине, а вся культура целиком представляла собой единое целое из гармонически организованных объектов.
Сквозь средневековый текст, пишет П.Зюмтор, «ощущается стоящее за ним требование рациональности, стремление к порядку, заданному разумом, потребность в единой концепции мира». И далее: средневековый текст проникнут «глубочайшим оптимизмом, верой в определенную самодостаточность человека и его слова, в природу, сильную поддержкой Бога… это неистощимая игра зеркальных отражений, где, однако, не может произойти ничего абсолютно непредвиденного»4.
И венок сонетов является совершенной, циклической и симметричной структурой без нарушений порядка.
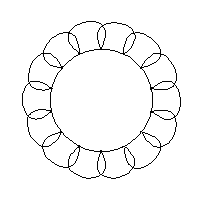
В венке сонетов, остоящем из 14 + 1 = 15 сонетов, осуществляется первая итерация увеличения сложности стихотворения. Осуществим следующую итерацию — пусть теперь каждый сонет из венка сонетов будет магистральным для своего, второго порядка, венка сонетов, а все 14*14 + 14 + 1 = 211 сонетов образуют венок венков сонетов. Эта конструкция настолько сложна, что она не имеет однозначного названия — различные исследователи именуют ее и венком в квадрате, и кружевом, и короной сонетов. На ней уже явно видна фрактальная природа такого цикла.
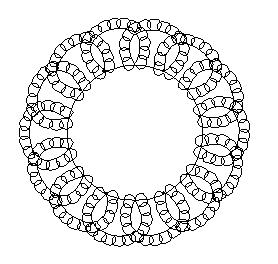
Также очевидно направление усложнения — в сторону венка венков венков сонетов — он же венок в кубе, или пирамида сонетов, или диадема сонетов, состоящий из 143 + 142 + 141 + 140 = 2455 сонетов.
Создать венок венков сонетов — чрезвычайно трудная задача. В.Шкловский выражал сомнение, что она может быть решена без риска для психики автора. Однако таким стихотворным циклам нельзя отказать в наличии завораживающей красоты, настоятельно требующей полного в нее погружения и ничего не обещающих относительно возвращения в реальный мир.
Создание фрактального произведения следующего уровня сложности, венка венков венков сонетов, представляется уже неосуществимым. И это еще одно подтверждение ограниченности человеческого разума, не способного справиться с задачей не то что бесконечного, а хотя бы третьего уровня сложности.
«Древа» Луллия
Примерно в то же время, когда были созданы первые сонеты, в конце XIII — начале XIV века работал испанский поэт, мистик и проповедник Рамон Луллий. И так же, как испанским, французским, провансальским поэтам, мироздание представлялось Луллию симметричным, цельным, совершенным и живым телом. Основой учения Луллия стала вера в единство бытия, его познаваемость и возможность описать любые объекты и явления как комбинации основных причин, или принципов. Общую структуру своего учения Луллий изобразил в форме дерева: из земли вырастает ствол, от ствола отходят крупные ветви, от крупных ветвей отходят ветви поменьше, от них — совсем маленькие веточки, на которых растут листья, цветы и плоды.
В книге «Древо науки» на 1300 листах ин-фолио, в более чем 400 000 слов, живописуется общее древо знаний, созданное Луллием из шестнадцати меньших деревьев отдельных наук и искусств5 .
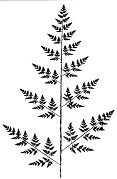
Эти шестнадцать Дерев отдельных наук являются частью друг друга, вместе образуя мета-дерево, архитектурно схожее с японской пагодой, чья крыша состоит из нарастающих друг над другом крыш (метафора У.Эко).
Корнями Древа Науки Луллия являются девять основных принципов, или универсальных категорий. Из них Древо вырастает в шестнадцать ветвей, каждое из которых представляет собой отдельное древо. Каждое из этих шестнадцати деревьев, которому посвящается отдельное описание, делится на семь частей — корни, ствол, основные ветви, меньшие ветви, листья, фрукты и цветы. Восемь из деревьев представляют собой предметы главной таблицы Луллия, tabula generalis: это древо Arbor elementalis, которое описывает объекты подлунного мира или элементы, elementata; Arbor vegetalis; Arbor sensualis; Arbor imaginalis, которое показывает воображаемые образы, которые отражают в сознании явления и предметы, представленные на других деревьях; Arbor humanalis et moralis (память, ум и желание); Arbor coelestialis (астрономия и астрология); Arbor angelicalis; Arbor divinalis, которые описывает божественные категории. К этим восьми деревьям Лулль добавляет еще восемь: Arbor mortalis (добродетели и пороки); Arbor eviternalis (жизнь и смерть); Arbor maternalis (Богоматерь); Arbor Chrisanalis (Христос); Arbor imperialis (правительство); Arbor apostolicalis (церковь); Arbor exemplificalis (знание); Arbor quaestionalis. При этом Arbor vegetalis является частью Arbor elementalis, Arbor sensualis включает в себя оба эти древа, Arbor imaginalis построено на них трех, и из всех них, и на всех них вырастает общее древо человечества.
Совокупность книг Луллия является структурно-фрактальной, структура различных уровней, описывающих различные деревья, подобна структуре других уровней и структуре всего Древа целиком, как подобны ветви «фрактального папоротника».
Главным же в учении Луллия была Вера — во Всевышнего, совершенство, отражающее себя во всех проявлениях мироздания. Однако человек давно утратил ту вдохновенную веру в оригинал и много лет решает задачу воссоздания оригинала по оставшимся грубым и тусклым копиям или же проблему существования в отсутствие оригинала. Собственно, этими задачами и определяются, по большому счету, задачи, которые ставит себе вся литература, но особенно выпукло — литература фрактальная.
Предисловия и «рассказы в рассказах»
Рассказ в рассказе — достаточно древнее явление в литературе. Рассказы в рассказах появлялись уже в «Метаморфозах» Овидия: внутри истории об обращении Ио в корову находится рассказ о Пане и Сиринге, которым посланец Зевса пытается усыпить стоокого Аргуса, стража несчастной Ио. А внутри «Золотого осла» Апулея мы встречаем, например, изложение истории об Амуре и Психее.
Это случай одного вложения, что, вероятно, не является полноценным фрактальным литературным произведением. Если максимальное количество повторов ограничивалось, как мы видели, числом около семи, то минимальным ограничением будет, вероятно, число три — нужно хотя бы три повторения или структурные итерации, чтобы литературное произведение воспринималось как фрактальное, потенциально допускающее усложнение до бесконечности.
Часто автор предпосылает своему произведению предисловие, в котором создает повествователя, который якобы сочинил или записал следующее произведение. Так поступает А.С.Пушкин, предваряя «Повести Белкина» биографией «покойного Ивана Петровича Белкина», написанной по просьбе издателя его соседом-помещиком. Оказывается, что «настоящий» автор повестей мертв, его наследница никогда с ним не встречалась и ничего о нем сказать не может, а свидетель-сосед не желает открывать свое имя и публично выступать в роли писателя, даже автора небольшой биографии.
Повести, выдаваемые за запись реальных событий, окружены завесой тайны. Это одна «обертка», еще одна маска, за которой прячется автор.
Умберто Эко предваряет роман «Имя розы» целой луковицей масок: в Праге 16 августа 1968 года повествователь приобретает книгу «Записки отца Адсона из Мелька, переведенные на французский язык по изданию отца Ж.Мабийона» в переводе на французский язык аббата Валле. В комментарии к этой якобы изданной в 1842 книге указывается, что «переводчик дословно следовал изданию рукописи XIV века, разысканной в библиотеке Мелькского монастыря знаменитым ученым семнадцатого столетия». Рассказчик начинает переводить книгу на итальянский, попутно открывая, что «никаких следов рукописи отца Адсона в монастырской библиотеке не обнаружилось». Вскоре он теряет и книгу Валле. И узнает, что «первоисточник», книга доктора теологии Жана Мабийона, издана иным издателем и на два года позже, чем указано у Валле. Посетив аббатство, где якобы была издана книга Валле, он убеждается, что никакой аббат Валле никогда не публиковал книг в типографии аббатства, да похоже, и типографии-то у аббатства никогда не было. Мистификация? Но повествователь находит в другой книге, переводе с утерянного грузинского (!) оригинала (Тбилиси, 1934) обширные выдержки из рукописей Адсона Мелькского в изложении преподобного Афанасиуса Кирхера, знаменитого ученого XVII века, и, значит, делает вывод повествователь, аббат Валле подтвердил свое существование, следовательно, существовал и Адсон из Мелька. И повествователь решает опубликовать свой «итальянский перевод с довольно сомнительного французского текста, который в свою очередь должен являть собой переложение с латинского издания семнадцатого века, якобы воспроизводившего рукопись, созданную немецким монахом в конце четырнадцатого». Число «оберток» достигает четырех и уже фрактально по природе.
В такого рода предисловиях цель автора, скрывающегося за маской, а иногда и не одной, состоит в том, чтобы убедить читателя в подлинности своего повествования. Пусть оригинал утрачен, играет в игру с читателем автор, но вы можете мне поверить, что он был, или мы можем сделать вид, что он был, или сделаем вид, что вы верите. Автор здесь самонадеянно берется за со-творение якобы подлинника, со-оригинала.
В качестве других примеров текстов с вложенными в них текстами можно привести сборник арабских «Сказок тысячи и одной ночи», «готический» роман Яна Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе», романы «с выдвижными ящиками» Евгении Сюэ, а также произведения Раймона Русселя, в которых внутренние сюжеты до шести раз заключаются «в скобки».
В классической литературе «рассказ в рассказе», вложение, сюжетно подобное оригиналу, осуществляет В.Шекспир в III действии «Гамлета», когда заезжие актеры по просьбе Гамлета разыгрывают перед двором сцену, которая дублирует ключевые события оригинальной пьесы — убийство короля и брак цареубийцы с королевой.
Этот эпизод усложняется в пьесе Т.Стоппарда «Розенкранц и Гильдернштерн мертвы». Автор вносит в пьесу вторую итерацию: актеры, репетирующие пьесу, разыгрывают и пантомиму на тот же сюжет. Интересно, что в одноименном фильме (автором сценария и режиссером его также был Т.Стоппард), осуществляется еще одна итерация, и на сцене появляется грубо вылепленные марионетки героев. Таким образом, трагическая история рассказывается в третий раз, на каждом уровне теряя в качестве изложения, как теряет качество все уменьшающаяся копия.
Трех итераций, как мы видели, уже вполне достаточно, чтобы говорить о полноправном фрактальном произведении. Заметим, что ключевой момент, убийство короля, не представлен в пьесе Шекспира и изначально существует только как догадка, мучающая Гамлета, и также как пересказ, осуществленный заезжими актерами. Оригинал утерян безвозвратно, и попытки Гамлета создавать все новые копии есть попытки восстановить утраченный оригинал по бледным, с каждым разом все более грубым копиям.
Снижение качества копии при «увеличении масштаба» изображения является здесь осознанным решением художника в поисках выхода из бесконечной цепи тавтологических повторений. Это решение должно, через какое-то количество чарующих итераций, снять вызванную им проблему и прервать ряд, ибо ни королевское спокойствие, ни гамлетовские комплексы не бесконечны.
В пьесе Стоппарда, как и в пьесе Шекспира, ряд все же рвется, рассказ в рассказе в рассказе в рассказе заканчивается, и история продолжается примерно там же, где прервалась. Доказательства, как и признания в цареубийстве, которого так жаждет Гамлет, он не получает, король (последовательность кукла-мим-актер-король) в гневе покидает зал, и Гамлету остается довольствоваться этим поступком как косвенным признанием вины. Последовательность фрактальных изображений не привела к восстановлению оригинала.
«Сон во сне»
Мы уже видели, что завораживающее действие фрактальных литературных произведений может происходить в той действительности, что предстает перед человеком во сне. Существует целый ряд произведений, в которых повествуется о снах, неотличимых от действительности, которые оказываются частью иного сна, а те — еще одного, так что всякое пробуждение приводит героя в новую сновидческую реальность. Это ощущение, вероятно, испытывали многие в собственной жизни, и многие писатели пытались провести читателя коридорами вложенных снов в своих произведениях — среди них Г.Майринк в «Големе»: «Когда люди подымаются с ложа сна, они воображают, что они развеяли сон, и не знают, что становятся жертвой своих чувств, что делаются добычей нового сна, более глубокого, чем тот, из которого они только что вышли».
Фантасмагорическую последовательность пробуждений от сна во сне приводит С.Лем в одном из романов из серии «Приключения Ийона Тихого».
Одним из примеров такого рода представлений может служить стихотворение Э.А.По «Сон во сне»:
В лоб тебя целую я,
И позволь мне, уходя,
Прошептать, печаль тая:
Ты была права вполне, —
Дни мои прошли во сне!
Упованье было сном;
Всё равно, во мгле иль днём,
В дымном призраке иль нет,
Но оно прошло, как бред.
Всё, что в мире зримо мне
Или мнится, — сон во сне.
Стою у бурных вод,
Кругом гроза растёт;
Хранит моя рука
Горсть зёрнышек песка.
Как мало! Как скользят
Меж пальцев все назад…
И я в слезах,- в слезах:
О боже! как в руках
Сжать золотистый прах?
Пусть будет хоть одно
Зерно сохранено!
Все ль то, что зримо мне
Иль мнится, — сон во сне?
(1827—1849, пер.В.Брюсова, 1924)
С элегическим размышлением Э.А.По контрастирует настроение стихотворения С.Кирсанова, в котором череда вложенных один в другой снов представляется смертельным кошмаром, из которого нет выхода:
1
Кричал я всю ночь.
Никто не услышал,
никто не пришел.
И я умер.
2
Я умер.
Никто не услышал,
никто не пришел.
И кричал я всю ночь.
3
— Я умер! —
кричал я всю ночь.
Никто не услышал,
никто не пришел…
Заметим, что данное стихотворение представляет собой комбинацию стихов в строфе. Однако эти перестановки осуществляются не как различные возможности, а как бесконечная череда вложенных один в другой замкнутых, циклических возвращений, дурная бесконечность ночного кошмара.
Семантические фракталы
Иную возможность осуществить фрактальность текста реализуют литературные произведения, в которых о подобии части бесконечному и вечному целому только рассказывается. В таких произведениях писатель демонстрирует, что предметы, явления или люди повторяются в бесконечной цепи сходств-подобий. Обычно в такой цепи перерождений нет и быть не может оригинала, всегда была и всегда будет только эта дурная бесконечность повторов, из которой нет выхода. Уразумев сказанное, читатель приобретает и представление о беспредельной красоте сущего и беспредельный же экзистенциальный ужас.
К таким текстам отнесем рассказ Х.Л.Борхеса «В кругу развалин»6 о неизвестном, появившемся у развалин храма Огня. Этот человек во сне создает человека, столь реального, что даже сам он верит в свое существование. Кудесник же испытывает ужас, что его сын догадается, что является подделкой, отражением чужого сна, и тут же понимает, что и сам он тоже только «лишь призрак, снящийся другому».
Из одного звена цепи Борхес выстраивает бесконечность призрачных существ, порожденных одно другим в русле неведомой бесконечной реки, в дурной бесконечности копий без оригинала, и цепь эта, по мнению автора, отвратительна, ибо, как сказано в другом рассказе Борхеса, «зеркала и совокупления отвратительны, ибо умножают количество людей»7.
Герой рассказа Х.Кортасара «Желтый цветок»8 предпринимает отчаянный поступок, чтобы разорвать бесконечную цепь бессмысленных перерождений. Он встречает мальчика и осознает, что тот — «еще раз родившийся он, смерти не существует, мы все — бессмертны». Мальчик повторяет его, и все, что у него было и будет — это нищета, болезни, физические и душевные травмы, утраты и боль. И старик, прерывая дурную бесконечность перерождений, убивает (или считает, что убивает) ребенка. Он счастлив, что никогда больше не повторится, и вдруг замечает прекрасный желтый цветок и уразумевает небытие как отсутствие. Неожиданно, как пришло и откровение о другом, бестолковом и несчастном «я», приходит понимание красоты, какой бы она ни была.
Несчастья героя, унижения и утраты, которые он чувствует на своем уровне восприятия, вдруг, при взгляде сверху, сменяются пониманием радости, пронзительного счастья бытия как такового, видимого только на грани существования. Автор предоставляет читателю возможность взглянуть на цепочку перерождений с разных уровней и из линейного уровня, несчастий и утрат, или фрактального, экзистенциальной радости, выбрать свой.
Нарративные фракталы
Еще один вид литературных фракталов можно назвать нарративными фракталами, поскольку они соотносятся не с умственными схемами, а с существующими или мнимыми произведениями визуального искусства.
В XVII-XVIII веке получил распространение жанр «кабинетов», или «кунсткамер». Ряд картин известных художников представляют собой изображение множества картин внутри картины — барочные галереи, кабинеты или кунсткамеры, на которых изображаются другие картины или собрания картин, как на знаменитых «Менинах» Веласкеса или картинах Дж.-П.Паннини.
В книге Ж.Перека «Кунсткамера»9 рассказывается о картине, изображающей зал художественной выставки, к экспонатам которой принадлежит и сама эта картина. На этом изображении — снова все картины выставки, включая и картину «Кунсткамера», и так далее, всего шесть уменьшающихся копий, видимых невооруженным глазом, и еще две, которые можно рассмотреть в лупу: «Все картины воспроизводятся снова, и так — несколько раз; при этом точность изображения сохраняется и на первом, и на втором, и на третьем уровне, — до тех пор, пока рассматриваемые произведения не превращаются в крохотные точки».
В отличие от Стоппарда, отказывающего уменьшающимся копиям в сохранении исходного качества, Перек категорично утверждает, что даже шестая, в несколько миллиметров копия, сохраняет детали оригинала. Но копии Перека не воспроизводят оригинал тождественно, детали изображений варьируются или исчезают, чайник превращается в синий кофейник, боксер-победитель на одном уровне изображения в следующей копии лежит на ковре, лютнист превращается во флейтиста, пустынную площадь на следующем уровне заполняет карнавальная толпа, и пр.
Вскоре в результате несчастного случая уничтожается картина «Кунсткамера», умирает смертью хозяина коллекции, и картины становятся недоступны для публики. Это исчезновение «оригинала второго уровня», или первой копии заведомо недостижимого оригинала, резко подогревает интерес и к самой пропавшей картине, и к коллекции в целом, состоящей (по описанию) из многочисленных шедевров старых мастеров.
На волне этого интереса появляются искусствоведческие исследования, посвященные как работам художника, создавшему «Кунсткамеру», так и другим картинам из коллекции.
Читатель, естественно, узнает и о картинах, и об их истории, и о их культурологической и рыночной ценности, исключительно из текста Перека, и в отсутствие оригинальных изображений располагает только словесными описаниями картин. Впрочем, и персонажи книги располагают, в отсутствие картин, запрятанных в семейные архивы, только этими самыми искусствоведческими исследованиями, очередной копией пропавшего оригинала.
Текст книги включает и критические заметки, и интерпретации визуальных произведений, причем, как и в случае визуальных вариаций на различных уровнях изображений, интерпретации их также даются с вариациями: от трактовки «Кунсткамеры» как выражения глубокой горечи разочарованного автора, вынужденного бесконечно рефлексировать в бесконечно повторяющемся мире, до решения ее как осуществления высшего внедрения и присвоения, доходящего до «проекции своих черт на Другого и Похищения в прометеевском смысле слова».
Вскоре, однако, многочисленные культурологические и историко-культурные исследования, глубокомысленные фразы и рассуждения оборачиваются смехом — всего лишь смехом и высшей формой человеческой деятельности — смехом, смехом, которым смеются перед лицом высшего, бесконечного, непостижимого и неизбежного не боги, а люди.
Ибо «Кунсткамера» оказывается грандиозной мистификацией. Разогретая многочисленными и умело поданными упоминаниями в искусствоведческой и массовой прессе, но более всего заинтригованная исчезновением нашумевшей картины, публика наконец скупает выставленные на аукцион произведения из коллекции «Кунсткамеры» по баснословным ценам.
И вскоре узнает, что «:картины, представленные как копии, как подражания, как повторения, и в самом деле выглядели как копии, подражания, повторения подлинных картин: Спешно предпринятая экспертиза сразу же показала, что картины из коллекции Раффке были, действительно, большей частью фальсифицированы, равно как большей частью фальсифицированы подробности этого вымышленного рассказа, задуманного ради одного лишь удовольствия, ради одного лишь трепета пред иллюзорностью».
Множественные варьирующиеся копии бесконечно схожи с оригиналом, которого нет, никогда не было и никогда не будет, это — фальшивка, симулякр творения. Попытки восстановить оригинал по подобиям заведомо обречены на неудачу, ибо оригинала никогда не существовало, а фальшивые копии созданы с изначально лживой целью.
Но не стоит расстраиваться, не стоит скорбеть об утерянной бесконечности и изначальности, также как и о понапрасну израсходованном снобистском восхищении прекрасным и о деньгах, потраченных на фальшивки.
Если место никогда не существовавшего оригинала занимает симулякр творения, единственно достойным занятием становится сложная игра в его заведомо фальшивое воспроизведение, а также смех, который поднимает человека выше пустых богов.